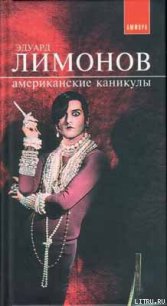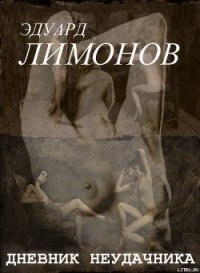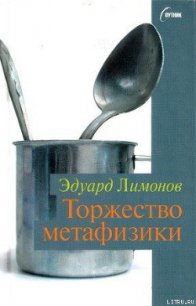Это я – Эдичка - Лимонов Эдуард Вениаминович (библиотека книг .txt) 📗
– Завтра я не могу, – сказал он с видимым сожалением.
– Может, в воскресенье? – спросил я.
– Не знаю, – сказал он. – Может, сегодня вечером?
– Может, – наконец согласился я. – Я дам вам мой номер телефона – позвоните сегодня вечером.
У меня был троцкист Джордж и революционный француз из Канады, они задавали мне вопросы о диссидентском движении в СССР и записывали мои ответы на тайп-рикордер. Ничего утешительного я им не сказал, и в свою очередь спросил Джорджа, когда уже можно начать стрелять, а не только защищать права то крымских татар, то палестинцев, то еще кого-то, когда закончатся эти бесконечные маленькие интеллигентские собрания, и будет борьба. Последовали долгие объяснения. Меня обозвали анархистом, и два западных революционера покинули восточного, русского революционера. В дверях они столкнулись с Леней Косогором, человеком, отсидевшим десять лет в советских лагерях. «Какая каша из людей!» – подумал я.
Когда ушел и Леня, наконец, я решил устроить себе удовольствие – сделал себе сэндвичи с огурцом, луком и ветчиной, налил себе бордо. История сэндвичей и бордо короткая, но яркая. Это все принес соседу Эдику из номера 1608 какой-то друг, а сосед Эдик вегетарианец и вина не пьет почти – припасы он, от греха подальше, отдал мне. Так вот, я налил себе бордо и приготовился укусить бутерброд… Раздался телефонный звонок.
– Хэллоу, – сказал я.
– Это Бэнжамэн, – сказал голос.
– Я не Бэнжамэн, – сказал я.
– Я – Бэнжамэн, – сказал он.
– О, Бэнжамэн! – сказал я, – я не занят уже, хочешь встретиться со мной? Давай встретимся на углу 57-й улицы и 5-го авеню.
– Нет, – сказал он. – Я сегодня хочу остаться дома. Гоу ту бэд! Приходи!
Я покрылся потом. Грубо. А ресторан? А прелюдия? Что мы – крысы? Может, я подумал не совсем так, но что-то вроде этого. «Гоу ту бэд». Ишь ты! Придумал!
– Я не могу сегодня в постель, – сказал я, – я имею плохое состояние.
Тут мы с ним начали запинаться и запинались некоторое время, я искал нужные английские слова, а он… не знаю, почему запинался он…
Наконец, я сказал:
– Хорошо, я подумаю. Если хочешь, дай мне номер телефона, я позвоню тебе в течение получаса.
– Я не помню номер, и я сижу в ванне, – сказал он, – но я живу в отеле «Парк-Шеридан», номер 750, посмотри в телефонной книге, – сказал он.
– Я позвоню, – сказал я и повесил трубку.
Сейчас вы меня немножко поймете. Мне стало неприятно от грубости начала. Я хотел лечь с ним в койку, он мне чем-то нравился, но уж очень грубо. Конечно, может быть, так и поступают нормальные люди, у которых мало времени, у которых работа, и они визитеры, и у них есть вечер и чего бы не пригласить русского парня, который согласен, и к чему тут канитель и терять время.
Он был нормальный, но это меня и раздражило. Он даже не захотел сделать вид, что я ему нравлюсь, что у него не просто желание каким-то образом потереться о меня своим хуем, раздражив его не то у меня во рту, не то в этом моем отверстии, и он бы что-то делал мне, и ему были бы приятны мои содрогания, конвульсии моего организма, смотреть на это. Нет, он ленился даже вид сделать. Что говорить, мне это было неприятно. Для меня любовь – это взаимное ласковое притяжение и маленькая игра.
Поэтому я сидел расстроенный над телефонной книгой и судорожно искал его номер, при этом еще пил бордо, и ел мясо из борща, справедливо полагая, что мой нервный организм в таких условиях откажется выполнять свои функции, обиженный грубым его предложением, поэтому нужно мясо. Я обливался семью потами, так бывает со мной, когда я нервничаю, я ходил и подпрыгивал в комнате, волосы облепили мой лоб, и вообще произошла свистопляска, – если бы кто мог видеть это со стороны!
Номера в книге не было, не было такого отеля, но книга была двухгодичной давности, я подумал – ив этом дискриминируют нас, и что отель есть, я не сомневался. Я мог бы позвонить вниз и спросить у оператора номер этого отеля, но у меня с нашей администрацией, если вы помните, были отвратительные отношения, и нужно было просить, на что я не мог пойти. Стрелка часов неумолимо подвигалась, срок заканчивался, я был в отчаянии и не знал, как мне поступить. Не пойти, но как же моя свобода, как мое «Все могу!» Боюсь, думал я, трус, русский, к мужику на его грубое предложение пойти. Если б он сказал – пошли в ресторан, все было бы о'кэй. Это привычно, понятно, а потом в постель. Но тут, эх, не могу переступить. Раскольников… Эдичка несчастный, сгусток русского духа…
А Бэнжамэн этот – он, верно, ничего плохого не имел в виду – приглашал развлечься в постели, не знал же, что русские такие идиоты, и что я, обливаясь потом, буду думать – идти или не идти. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что если бы я нашел в телефонной книге этот злосчастный Парк-Шеридан, не Шератон, отель, я бы позвонил и пошел бы, переступив через все…
И тут я допустил вторую ошибку, и опять сел в лужу, обосрался, если хотите, как угодно – я позвонил своей бывшей жене, у нас вроде бы сделались в последнее время неплохие отношения.
Я сказал: – Здравствуй, это я.
– Чего ты хочешь, говори быстрее, – злобно и быстро сказала она.
– Я хочу рассказать тебе смешную историю, – сказал я.
– Я ухожу, тороплюсь, – сказала она злым голосом. И тут я с перепугу сказал: – Куда? – Черт меня дернул сказать!
– Какое твое дело, – швырнула она. – Хочешь говорить с Кирюшей, он сидит здесь?
– На хуй мне Кирюша? – говорю.
Вот и весь разговор. И я впал в еще большую нервность. Потом подумал и решил, что разозлилась она, вероятно, от того, что прочла сборник моих стихов, я подарил их ей накануне, отпечатав его на оборотной стороне рекламных листков с голыми красавицами – реклама борделей. Эти разноцветные листки я собирал специально. Там о ней в моих стихах много чего не очень лестного написано. Вот и зла. Раз злая, значит дела хуевые. Хотел с ней поделиться. Я не могу носить свои огорчения в себе.
Тогда я пошел в номер 1608 к Эдику и рассказал ему все и о Бэнжамэне и о грубости жены. У него, у Эдика, нет никакой сексуальной жизни, если только он не занимается мастурбацией, что, впрочем, может быть, может быть и не занимается, так как ест он, в основном, минутный рис и помидоры, что до конца подавляет плоть. Когда я постучал, он лежал и читал «Античную лирику» на русском языке.
Я отвлек его. Я рассказал ему все. И любовался эффектом. Я часто рассказываю ему о своих приключениях. Он знает про Джонни, он почти все знает. Слушая о Бэнжамэне, Эдик краснел, а я каялся и говорил, что вот не смог в этот раз убить свою старушку, то есть пойти и лечь с Бэнжамэном, не смог. И я выпил у него остатки тоже кем-то принесенной водки и запил их водой из-под крана. Эдик краснел, я думаю, он немного завидует моей смелости в этой жизни, если считать это все смелостью…
Потом под влиянием выпитой водки я решил выйти, спуститься в Нью-Йорк и натворить черт знает что, пойти выспаться с кем угодно, хоть с обоссанным бродягой, чтобы компенсировать себя за неудачу с Бэнжамэном. Не смог, трус, трус, твердил я себе. Право же, это мое больное место – ведь я всегда шел навстречу всем случаям, а тут я сдрейфил, испугался. Нужно было компенсировать.
Но оказалось, что я так устал от переживаний, что меня тянуло в сон, и у меня дрожали ноги. Закончил я свой день около пол-одиннадцатого длительной мастурбацией в полупьяном состоянии. Никуда я не пошел, и как я презирал себя! Каким последним человеком чувствовал я себя, как мне было горько и жутко, я почти плакал. Чтобы еще более унизить себя, я достал фотографию, где моя жена лежит со своей подругой-лесбиянкой, растворив пизду, а фотографировал их, очевидно, третий участник сцены – похотливый Жан-Пьер с красными глазами. Я мастурбировал, представляя, что произошло потом, как он, с волосатыми ногами, голый, положив фотоаппарат, подошел, лег, раздвинул ноги моей голубушки и выебал ее. Но этот прием мне уже не помогал. Я уже не мог кончить от этого. Постепенно у меня не останется ничего. Весь арсенал будет исчерпан. И тогда я уже совсем не смогу кончить. И так это бывает редко. Усталый и несчастный, я заснул, думая, что презреннее меня нет человека в мире.