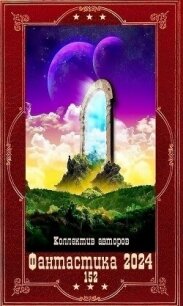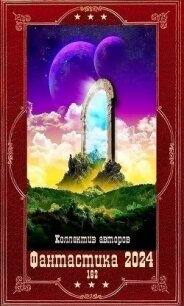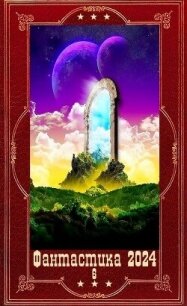Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT, FB2) 📗
Все еще улыбаясь, сузив от солнца глаза до серпиков, он сказал:
– Я буду. В свободное время. И без всяких надежд на богатство. Так что не думай пока про этот особняк.
– И все‑таки это возможно. Возможно, правда?
– Такой вариант не исключен.
– Значит, душа моя, тебе надо ради этого трудиться. Не беда, что не предлагают должностей. Ты можешь этим заниматься, и мы не будем так разлучены, как если бы ты согласился на Потоси.
Волны грохали об оконечность выступа, в небе, крича, стаями носились камнешарки, чайки, пепельные улиты, ржанки, воздух полнился острыми запахами соли и йода. Она поднесла ладони к щекам, горевшим от солнца, ветра и настойчивости. Оливер смотрел на нее пристально.
– А если не получится? – спросил он.
– Тогда поеду с тобой, душа моя, куда придется. Олли, если надо, оставлю у мамы или у Бесси, пока он не вырастет и не сможет быть с нами. Но у тебя получится, душа моя, мне чувство подсказывает, я блаженно в этом уверена. И мы построим дом на этом мысу и будем смотреть, как проплывают киты.
Он глядел на нее сонными благодушными глазами.
– Я думал, ты хочешь обратно на Восток.
– Потом, не сразу. Но, Оливер, если у тебя, душа моя, получится, я буду рада остаться тут на десять лет. Может быть, пока не придет время отдать Олли в школу. Я бы иногда ездила домой ненадолго, большего мне и не надо. Мы могли бы зазывать родных и друзей на наш маяк.
Его ладонь двинулась к ее щиколотке, сжала и потрясла. Он смеялся. Она видела, как он ею пленен.
Может быть, вспомнил, как держал ее за щиколотку, когда она нависла над водопадом на Большом пруду. Может быть, хотя мне в это не верится, он подумал, что в тот день их пикника и его ухаживаний он с таким же успехом мог бы нажать ладонью на пластину капкана.
Пусть теперь Мэриан Праус в духе театра девятнадцатого века провезет по сцене коляску с надписью на боку: два месяца спустя. То есть у нас ноябрь 1877 года.
Она проснулась словно по какому‑то сигналу изнутри ее тела – то ли щекотка, то ли боль. Пару минут лежала и прислушивалась, соображала, где находится, опознавала теплую тяжесть Оливера рядом с собой, чужеродную в этой чужой кровати. Тихо дыша во сне, чуть посвистывая сквозь усы, он возбудил в ней нежность. Только боязнь нарушить его отдых удержала ее от того, чтобы притронуться к нему.
Скорее память, чем зрение, наполняла темноту очертаниями, которые за три с половиной месяца сделались привычными, но не стали дорогими. Задняя комната у миссис Эллиот: вот шкаф, вот комод, вот бостонское кресло-качалка, вот едва видимые окна. Воздух был теплый и спертый. Согласился бы Оливер с миссис Эллиот, что вредно спать с открытыми окнами, впуская ночной туман, или назвал бы это сказками старых матрон и открыл бы окна? Она надеялась, что второе. Ей хотелось, чтобы его воля возобладала над непогрешимостью миссис Эллиот. Три с половиной месяца жизни у нее на пансионе заставили Сюзан превыше всего, что она могла вспомнить или вообразить, желать собственного дома, где с ней жил бы муж, не обязанный трудиться до изнеможения в чужих кабинетах или на чужих изыскательских работах, а вечерами проводить эксперименты, которые всё никак не удаются.
Вновь тихое нытье, на которое давно уже настроен ее слух. Она выскользнула из постели, ее призрак на миг показался в невидимом зеркале комода. Нащупала ручку двери. Тьма соседней комнаты была полна едким запахом подгузника. Скрипнули кроватные пружины.
– Да? – прозвучал голос Мэриан.
– Я им займусь, – сказала Сюзан. – Придется лампу зажечь, уж простите. Он обделался.
Руки сами нашли лампу и спички: привычка, созданная темнотой многих утр. В расцветшем световом пятне – вот он весь: широко открытые голубые глаза, беззубая улыбка, дрыгающие ножки. Она принялась его журить, яростно и нежно, очищая его и меняя подгузник, пощипывая при этом за пальчики ног и целуя в ладошки:
– О-о-о-о, ну что за ребенок! Ну что за плохо-о-ой мальчик! Весь раскрытый и грязный! Фу, как нехорошо! Такой грязный малыш. Я думала, душа моя, ты хороший, а ты!
Положив сухую, присыпанную тальком, укутанную и беспокойную ношу себе на плечо, придерживая ладонью теплую круглую головку, она нагнулась и задула лампу. В кромешной темноте, где облачком повисли остаточные образы от потухшего огня – зеленоватые, щербато улыбающиеся луны, – нашла обратную дорогу к себе в комнату. Пока отыскивала качалку, садилась и распахивала ночную рубашку для кормления, заметила, что темнота здесь посветлела. Вырисовались серые окна, предметы обрели материальность, почти проступил узор на обоях. У Оливера, зарывшегося лицом в подушку, виднелось одно ухо, один закрытый глаз, один ус.
Младенец сосал так жадно, что пришел на ум какой‑то иссохший корешок под первым дождем; грудь была мокрая и скользкая от его трудящихся губ. Сотворение, подумалось ей. Выход из утробы. Рост. Уже личность, с его пухлыми ножками, с плотным крапчатым тельцем и беззубыми улыбками. Он ни дня не болел, даже не простужался. Она была твердо настроена и дальше этого не допускать. Нет, он не одиннадцать фунтов весил при рождении, это весы доктора Макферсона так оскорбительно ошиблись. Оливер, зная, с какой скоростью он прибавляет, и отсчитывая назад, заключил, что он не мог тогда весить больше восьми. Да, сказала она ему, наклонившись к его шелковистым волосикам и уткнувшись в них носом. Да, но! Кушай, как сейчас, и будешь большой и тяжелый, как лошадь миссис Эллиот.
Она вскинула взгляд и увидела в серых сумерках, что Оливер лежит на боку и смотрит на них, полностью проснувшийся. Она застеснялась своего вида и отвернулась слегка, но он сказал, не поднимаясь и глядя на нее полными любви глазами:
– Не надо, сиди, как ты сидела.
Она повернулась обратно, но ей было неловко. Казалось, они пожирают ее оба: он – глазами, ребенок – ртом, издавая животные звуки у ее груди. Она сказала:
– Ты так поздно вернулся, поспал бы еще.
– Я уже проспал больше обычного.
– Ты слишком много трудишься, пожалел бы себя. Есть какие‑нибудь новости?
– Похоже, на всей земле для меня нет работы.
– А я могу тебе кое‑что сообщить, – сказала она. – Томас определенно берет у меня очерк о Санта-Крузе. Я рисовала каждый день. Даже одну из ужасных дочек миссис Эллиот изобразила, вполне презентабельный вид ей придала.
– Хорошо. Им полезна помощь со стороны. – Он смотрел на нее такими сияющими глазами, что ей огромного усилия стоило не заслонить плечом свою грудь, которую младенец немилосердно мял и жевал. Она состроила протестующую, смущенную гримаску. – Есть и у меня одно, – сказал он.
– Что?
– Я сделал цемент.
– Что? – От волнения выдернула сосок у ребенка изо рта, и пришлось снова ему дать. Не будь она так занята своим материнским делом, бросилась бы к постели и расцеловала это сонное улыбающееся лицо. – О, я же знала, душа моя, что ты сможешь, все время знала!
Оливер подбросил подушку к потолку и поймал.
– Я три раза это проделал. Даже старик Эшбернер признал, а он осторожный – пока палец в огонь не сунет, не скажет, что он горячий.
– Теперь мы сможем купить наш мыс.
– Теперь нам сидеть и ждать. Я только его изготовил. Что бы ты сказала, если бы какой‑нибудь желторотый инженер двадцати девяти лет без университетского диплома вошел к тебе в кабинет и заявил, что может делать гидравлический цемент и ему нужно сто тысяч долларов, чтобы построить завод?
– Дала бы ему их немедленно.
– Ну, ты ведь жена этого инженера. Ни один сан-францисский банкир так легко не раскошелится. Я не очень‑то умею убеждать да уламывать.
– Но тебе все удастся, душа моя. О, ну до чего же чудесно! Я горжусь тобой. Я знала, что тебе удастся. Разве ты не рад сейчас, душа моя, что мы не поехали в Потоси? – Ребенок вздохнул и пустил слюни у ее груди. – Погоди, – прошептала она. – Дай я с ним закончу.
Он свисал у нее с груди, как спелый плод, готовый упасть. Глазки закрылись, открылись, снова закрылись. Когда отняла его от груди, он пустил по подбородку молочные пузыри, и она, вытирая, журила его, называла свинкой. Он очень легко срыгивал, это не взрослая рвота, когда прошибает холодный пот. Тут не было ничего болезненного, из него выходило с такой же легкостью, с какой входило. Словно он еще не отвык от материнского кровотока, втекающего в него и вытекающего, питающего его так же, как море питает актинию на скале. И ее кровь все еще помнила его: что ее разбудило сегодня утром – может быть, не крик ребенка, а его голод? Ей претила мысль, что ему придется стать отдельным организмом, испытывающим тяготы, приговоренным к усилию и выбору.