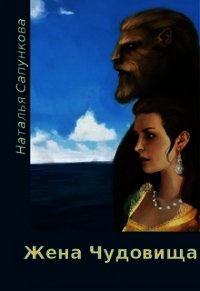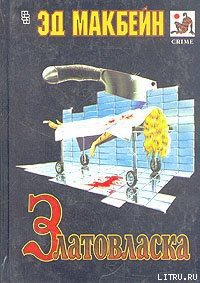Вальс с чудовищем - Славникова Ольга Александровна (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
B общем, все довольно быстро катилось к концу. Абсолютно чистые и белые конверты, в которых компания ЭСКО выдавала служащим ежемесячное жалованье (расписывались всегда за гораздо меньшую сумму), становились у Вики все более толстенькими и приятными на ощупь; их больше не оттягивала, как у других, съехавшая в угол скаредная мелочь. Поскольку никто заранее не знал, какую сумму он получит на этот раз, Викина числомания благополучно перешла с автомобильных номеров на реальные, мучнистые на ощупь новенькие доллары и как бы перестала быть сумасшествием, – хотя не факт, что прямая реальность, завладевая человеческим умом, не увлекает его все по тем же квадратным бешеным кругам.
Во всяком случае, распределение денег мало чем отличалось от измысленного на обочинном сугробе. Антонову пришлось водить себя, костлявого и зябкого, по кондиционированным магазинам дорогой одежды, полупустым для пущей важности вывешенных на фоне мрамора, театрально освещенных пиджаков. Эти холодные залы сами были совершенно как витрины, и Антонов, скованно расхаживая внутри среди патетически оформленных чудес, чувствовал себя выставленным против воли на полное обозрение улицы. Примерочные кабины, величиной с хорошую комнату, были для него источником дополнительных мучений: стадии одеваний и раздеваний, отражаемые в холодных синеватых зеркалах, не позволяли сохранять человеческую цельность, и Антонов, путаясь в чужих, чрезвычайно извилистых брюках, удивлялся, как это Вика на каждом аналогичном этапе умудряется выглядеть нисколько не смешно и не безобразно, а будто в таком специально задуманном прикиде. Заботливая жена (дома заботы совершенно не проявлявшая), разумеется, присутствовала тут же и собирала на вешалки вывернутое барахло, а если ей приходился по вкусу конечный результат, брала супруга под руку и вместе с ним отражалась в зеркале. Получалась как бы свадебная фотография – будто эти двое могли бы пожениться не так, как вышло, а совершенно по-другому, – и Антонов удивлялся, что может после этого тащить пакет, поедать разогретый ужин, сладковато-жирный от дополнительного маргарина, листать перед сном позапрошлогодний американский научный журнал. Материализовалась, между прочим, пиджачная пара в меловую полоску, как раз такая, какую Вика измыслила и искала по всем магазинам, думая, что непризнанный гений Антонов будет выглядеть в ней как американский профессор (на самом деле она руководствовалась смутным впечатлением от американского фильма про гангстеров); облачившись в обнову перед ясным зеркалом минусовой температуры, Антонов ощутил себя буквально поставленным перед будущим – таким, где твое обыкновенное «завтра» принадлежит не тебе, но всему объему еще не бывшего, не разделяющемуся, по мере приближения к человеку, на его простые человеческие дни.
Иногда Антонов как бы замирал посреди осторожного наступления будущего – в частности, висящего в шкафу в виде ни разу не надетых вещей. Внутренний его хронометр ощущал какую-то пустотность, нехватку материала, и Антонов догадывался, что мельницы и мельнички обычных часов могут внезапно опустеть – не из-за того, что кончится завод, а из-за того, что нечего станет молоть. Впрочем, субъективно все это могло объясняться затянувшимся бездельем: монография в столе у Антонова уже почти превратилась в кучу перегноя, и даже пачечка чистой бумаги, не успевшая переработаться в исписанную, одеревенела и покрылась какими-то пищевыми пятнами, будто кухонная доска. Пустое время – все эти дыры, образовавшиеся в жизни из-за отсутствия работы, – не могло заполнить никакое другое занятие. Сознание Антонова, хоть он и не отдавал себе отчета, весьма отличалось от сознания нормального человека – сознания хорошо очерченного, более или менее округлого, стремящегося к проекции на плоскость. Ничего не попишешь: измерение четвертого, пятого и так далее порядков было дано Антонову в ощущениях, шептавших, что вещи мира, предстающего реальным, есть изображения истинных вещей, как рисунок яблока на бумаге есть изображение яблока, которое лежит на столе, – и что ряд таких соотношений принципиально бесконечен. Но теперь сознание его высыхало в кляксу – свидетельствующую, как всякая клякса, о том, что над страницей рукописи (к примеру, романа) существует иное пространство, в котором витает автор. Но клякса (Антонов сам это прекрасно понимал) не есть участница смысла, создаваемого на листе, – и бессмысленность Антонова, призванного служить соединением реальных и истинных вещей, делалась особенно заметна, когда он, сопровождая жену с очередного офисного праздника, торчал возле нее, замкнувшейся в себе, под безлюдным навесом трамвайной остановки, а городской энергичный дождь барабанил по асфальту, будто печатал что-то на пишущей машинке.
Все явственнее становилось, что дома он и Вика предпочитают держаться спинами друг к другу, исполняя ради этого замысловатый антитанец. Если они и обменивались взглядами, то только через зеркало: в его водянистом, водопроводно-ржавом веществе темные глаза жены странно теряли свою быстроту, и Антонов, стоя позади сидящей Вики – нестерпимо милой с этими по-детски косолапыми лопатками и розовой, словно недозрелой россыпью родинок, ловко схваченных бельевой застежкой, – встречал ее затравленное, жалостное недоумение, в реальности всегда прикрытое косметикой и все никак не грубевшей ее красотой. Так они видели друг друга, понимая, что стоит, поддавшись приглашению зеркала, посмотреть на себя, как тут же между ними исчезнет нечто, подобное недостоверному контакту на спиритическом сеансе. Говорить друг с другом в такие минуты было все равно что лицедействовать в кадре; любое слово, вышедшее из отраженных уст, казалось сказанным понарошку, ради неуклюжей шутки (притом что все зеркала, привязывая говорящий рот не к тревожным глазам, но неизменно к ушам нациента, сами обладают темноватым чувством нечеловеческого юмора), – и Антонову, брякнувшему что-нибудь насчет погоды, становилось ясно, что полуголая Вика, блуждающая левой рукой над своими подзеркальными флакончиками, абсолютно не намерена шутить. Сразу же прерывался спиритический контакт: обоим было удивительно, что они все еще здесь, по эту сторону границы, оба материальные, будто тела в общественной бане, при этом оба заражены какой-то неуклюжей леворукостью, – и Антонов, поспешно убравшись из зеркальной рамы, завязывал на себе, бинтуя лопастью лопасть, перепутанный галстук и получал в итоге все наоборот: короткую толстую часовую стрелку и длинную минутную, плюс намертво затянутый под горлом шелковый кукиш.
Все чаще и чаще оставаясь дома один, Антонов познал экспериментальным путем, что смотреться в зеркало гораздо хуже, нежели лезть на стену. Из своих таинственных командировок Вика присылала Антонову тощенькие письма, где оборотную сторону единственной странички занимала ее обведенная по контуру левая ладонь: пустой привет из Зазеркалья, волнистые, словно распухшие пальцы, – схематический рисунок полуоборванной ромашки, но если мужественно начинать со слова «любит», то все выходит очень хорошо. Антонов ведь и правда не знал, с чего у них начиналось в действительности и откуда в конце концов взялась эта ванна кровавого компота (об осьминоге и его диване он не думал). Антонову даже нравились служебные отлучки жены на неделю или на две, потому что он мог ложиться в постель, не слушая лая подъезда и не страшась одинокого утра, когда, очнувшись, ощущаешь ребрами не костлявенький локоть, но вчерашнюю книгу, а потом, когда начинаешь с кем-нибудь говорить, первое время слышишь собственный голос, будто утреннюю радиопередачу. Что касается зеркала, то Антонов, глядя на него, то есть на себя, начинал почему-то мерзнуть. Там, внутри, было действительно пасмурней, чем в комнате, всегда холоднее градусов на десять, вполнакала горело слабосильное электричество, и лампы, будто проржавелые кипятильники, не могли нагреть такого количества воды. Приближаясь к стеклу, чтобы увидеть на глазном горячем яблоке лопнувший сосуд, Антонов чувствовал, что затемняется лицом, как бы погружается в остывшую ванну. Иногда ему мерещилось, будто все это может хлынуть из зеркала: внезапно рухнет, сшибая и перемешивая Викину косметику, ржавая волна, вырвется, ахнув и зажурчав под зазеркальным потолком, перекошенная люстра, опрокинутся и изольют земляную жижу цветочные горшки, заплещутся, точно щучки, выливаемые в реку из ведра, мельхиоровые ложки и вилки, а на подзеркальник, точно на бруствер окопа, ляжет явившийся с той стороны полосатый костюм.