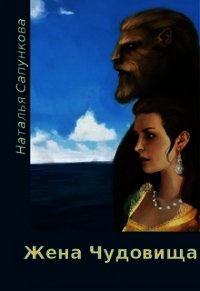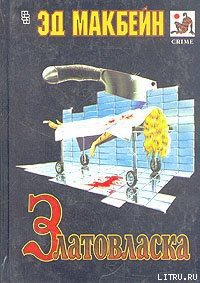Вальс с чудовищем - Славникова Ольга Александровна (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
Все это был, конечно, полный бред, питавшийся памятью Антонова о том, что смерть оставляет иногда и мокрые следы. Зато он понял наконец, отчего так ненавидит зеркала. Они не давали ему держать безупречную дистанцию между собою и всем остальным: в самом деле, как можно было ручаться за собственное отсутствие в дурном, черт-те какими фразами исписанном пейзаже, если на любом его повороте может ожидать переимчивое зеркало, способное поймать человека, будто муху, и хоть на минуту, но превратить его в такую же, как прочие, надписанную вещь? Антонову было неуютно на улицах, неуютно в магазинах – оттого, что каждое его движение могло отозваться, без его согласия и ведома, саркастической ужимкой этого нового пространства, этого конвейера по производству умноженных предметов, из которых человеку достается только что-нибудь с краю, поплоше и победней. Ощущение собственной бессмысленности, удостоверенное отсутствием денег и обострявшееся, как некоторые болезни, во время дождя, когда пережидаешь под тем или иным навесом, на кромках бледной земли, словно на полях энергично набираемого текста, преследовало Антонова – и зеркало, вообще-то не призванное быть отражением мыслей и чувств, возвращало ему именно это добро. В отличие от уличных зеркал, домашний экземпляр хоть и грозился утопить, но не гримасничал без дела: терпеливо учил Антонова искусству повторения, подражания, искусству завязывать галстук, быть и выглядеть таким же, как все остальные. Эти уроки повторялись настолько часто, что Антонов, будь он более прилежным учеником, мог бы, наверное, каждый раз отвечать улыбкой на вставную, будто батарейка, улыбку своего удачливого зубастого коллеги или хватать одновременно с Герой самый лучший бутерброд. Вместо этого он ходил у всех на виду проглотившим палку гордецом, руки по швам, так что казалось, будто он и сам к себе не имеет права прикоснуться. «Руками не трогать!» – вот, наверное, была бы лучшая надпись для нелепой фигуры Антонова, если это требовалось вообще. Викина любовь к своему отражению казалась Антонову чем-то чудовищным, он не понимал, как можно так долго на это глядеть; сам он полагал, что любая перспектива от его отсутствия не то чтобы выигрывает, но, по крайней мере, только так и может вызывать какие-то чувства – показаться, например, очаровательной в близорукости позднего осеннего солнца, в тихом тлении палой листвы, либо удивить подражанием людскому пониманию красивого: каким-нибудь рябиновым костром. Конечно, Антонов был не таким, как другие люди. Вряд ли он вполне осознавал, что несчастлив в браке. Он, дурак, находил отраду даже в манере жены держаться к нему спиной: россыпь розовых родинок, о которых Вика, увлеченная своим анфасом и профилем, скорее всего, не имела понятия, принадлежали только ему.
XVIII
Тем временем остальные персонажи этой близящейся к концу истории по-своему продолжали существовать. Случалось, что Викины конвертики (надписанные мелким, сорно-цветущим почерком) оказывались в одном почтовом урожае с письмами из Подмосковья. Вынимая сразу оба конверта, Антонов уже не видел возможности увильнуть от того, чтобы оба и распечатать; прежняя его подруга беседовала сама с собой, не дописывая фраз. Из более-менее связных кусков Антонов вычитал, что дочка подруги учится в московском балетном интернате, сама она теперь работает в больнице. Маленький муж был начисто выполот из письма; его отсутствие Антонов воспринял как нормальную женскую деликатность – а на самом деле этот страшненький человек давно растворился вместе со своим дальнобойным грузовиком где-то на просторах Европы, похожей в виде карты на какую-то сложенную из хитрых частей головоломку. Бывшая подруга Антонова неопасно, но много болела, из окна ее палаты открывался вид на железную дорогу – непременный в городке элемент, а вернее, индустриальный скелет всякого пейзажа, может быть, сохранявшего прозрачность именно благодаря этим тонким структурам рельсов, столбов, проводов. Пустота широкого, во много нитей, полотна регулярно заполнялась медленными, словно переходящими на увесистый шаг, поездами, – и однажды в пассажирском поезде южного направления через городок проехала красивая осанистая женщина, по паспорту Засышина Зинаида Егоровна, на вид живая и здоровая модель для гипсовых крестьянок, что и по сей день еще белеют, вместе с пионерами и сталеварами, в провинциальных парковых кущах. Если посмотреть на железную дорогу под другим углом, то она, размеченная сложными делениями шпал, вагонов, столбов и опор, подобна логарифмической линейке, на которой, при движении составов, не могут не получаться кое-какие результаты; поэтому Засышина, проезжая подмосковный городок, славный своим монастырем (напоминающим без реставрации нагроможденный гигантским бульдозером вал несвежего снега), увидела и скучное здание без балконов, в котором ее наметанный глаз безошибочно угадал больницу.
Примерно в это время несчастная Люминиева, бывшая в психушке представительницей рабочего класса, окончательно отказалась встречаться с мужем и сыновьями, чтобы лишние призраки не мешали ей любить настоящую семью, постоянно бывшую у нее в сознании и не нуждавшуюся в дополнениях извне. Люминиев Василий Васильевич, всегда имевший законный пропуск на шестой этаж, стал теперь несмело, не трогая руками ничего белеющего, подниматься в палату. Там его Люминиева сидела, раскачиваясь, на краю кровати, ее колеблющийся взгляд пропускал Василия Васильевича, как пропускает человека, поднявшись по нему и снова спустившись на землю, лиственная тень. По каким-то неуловимым признакам непринятый муж, уже совсем седой, как белый петушок, угадывал в палате присутствие своего двойника – невидимого, но постоянно бывшего здесь, среди женских байковых тряпок и запахов, среди четырех измятых кроватей и четырех облупленных тумбочек, похожих на деревянные стиральные машины, – и случались моменты, когда Василий Васильевич вдруг попадал на себя другого и чувствовал лишнее сердце в неподходящем месте, как, должно быть, клетка при делении чувствует второе ядро, а уже потом разрывается на куски.
В это же самое время выпускник мужского отделения психушки, любимец небесных птиц по прозвищу Ботаник, обратил внимание, что в окружающих его предметах остановились какие-то процессы. Как ни странно, его представления о видимом полностью соответствовали тому, что он действительно видел глазами; поэтому Ботанику ни разу не случилось обознаться, приняв знакомого за незнакомого, или, наоборот, никогда боковое зрение не украшало ему пейзажа лишним переливом абстрактной каймы, никогда ему не читались в узорах обоев гротескные профили – на его, Ботаника, счастье, потому что в противном случае искривленные, таскаемые им под мышками растения, в чьих корнях горшечная земля давно была безвкусной, как ожевок высосанной пищи за стариковской щекой, показали бы ему такие химеры, что Ботаник точно бы свихнулся. Особое зрение, с детства не допускавшее понять, как у подушки могут быть глаза и рот, было теперь источником донельзя странных документальных текстов. Тексты представляли собой дотошные описи вещей, реестры содержимого различных помещений, по большей части знакомых приятелям Ботаника, – и у них, особенно у жильца, при чтении возникало чувство, будто в запротоколированных комнатах что-то произошло, например преступление, что на полу очерчен марсианский контур трупа, что привычная жизнь никогда уже не вернется в прежнее русло. Эти малохудожественные, а местами и безграмотные словесные натюрморты, или протоколы, обладали одним, и только одним, таинственным качеством совершенного стихотворения: вычеркивание любого пункта буквально означало потерю – вещь пропадала неизвестно куда, не оставив по себе ни щепок, ни черепков, ни даже пыли, как не бывает в реальности, долго, если не навечно, сохраняющей рассеянные следы исчезнувших предметов. То, что у Ботаника начисто отсутствовало воображение, парадоксальным образом заставляло работать воображение других; сам по себе абсолютно зеркальный взгляд на мир настолько потрясал, что многие люди, и особенно дамы, причастные к литературе, считали произведения человека-памятника поистине гениальными. Им, однако, было не постичь того, что увидал однажды Ботаник, просто стоя на чьей-то кухне перед своими цветочными горшками: он увидал, что сперва один предмет, а потом сразу несколько других прекратили взаимодействовать со средой. Они как будто оставались такими, как минуту назад, но на самом деле были крашеными кусками омертвелого вещества; краситель, нанесенный поверху или намешанный в само вещество, и был тем единственным, что сохранялось в предмете, остановившемся во времени: след краски, и только. Тогда Ботаник понял, что ничего описывать уже не нужно, что все вокруг само превращается в мертвый музей. Преисполненный гордости победителя, он аккуратно, обеими руками, снял с гвоздей хозяйские настенные часы и, скривившись лицом от броска кукушки, выскочившей на пружинах из игрушечного люка, стукнул тугой механизм об угол стола, – но вокруг никто ничего не понял и даже, вследствие выпитого, нисколько не удивился. Ботаник и сам еще не знал, что теперь ему предстоит сделаться чем-то вроде городского Дон Кихота и сражаться с мельницами больших и очень больших часов, в надежде когда-нибудь добраться до главного четырехликого врага на башне бывшего горисполкома, торчавшего у всех на глазах точно властный регулировщик большого воздушного перекрестка и всего движения внизу, – и при этом абсолютно мертвого, как только может быть мертв циферблатный скелет.