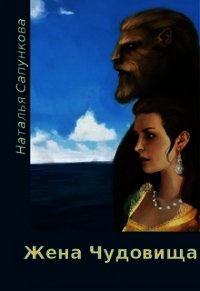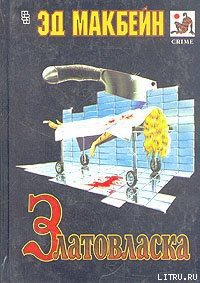Вальс с чудовищем - Славникова Ольга Александровна (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
Длинному Антонову, глядевшему через сутулые плечи коллег, были видны шнурованные ботинки ОМОНа, напоминавшие, если глядеть на них отдельно, кормящуюся стаю каких-то неповоротливых черных гусей; ему казалось нелепым, что передний ряд демонстрантов (среди них деканская секретарша, вся облепленная, будто утопленница, своими тонкими волосами) упорно держит несколько ватманов с размашистыми требованиями, в то время как на щитах ОМОНа, обращенных навстречу плакатам, ничего не написано. Эти щиты, похожие на большие кухонные мойки с дырками для стока воды, не означали ничего и не отвечали ничем, если не считать за отзывы глухие бряканья бутылок и камней, бросаемых из особой кучки активистов; там, в этой оживленной кучке, дополнительно швырявшей по ветру очень белые и как бы липкие листовки, мелькали обритые головы (две азиатские, дегтярно-черные, и одна щетинисто-белобрысая), никогда не виданные Антоновым в университетских аудиториях. Антонову было холодно и скучно, собственная его заледенелая лысина давала себя почувствовать через хлесткие кляксы случайных дождин. Дождины точно гвоздями прибивали листовки к тускло-зеркальному граниту между ОМОНом и толпой, иногда внезапный ветреный порыв буквально вырывал готовый веер из руки у сеятеля и швырял листки ему на кожаную грудь, где они трепетали, будто его раскрытая душа. Листовки и в разлете сохраняли какую-то общую намагниченность, были будто флажки на невидимой нитке, за которую в любой момент могли потянуть трудолюбивые ловцы, все бросавшие и бросавшие в толпу агитационную снасть. Тщетно укрепляясь топтаньем на своем опасно скользком пятачке, Антонов чувствовал, что ему чрезвычайно тяжело и муторно сохранять себя в пределах собственной физической оболочки, не быть всею этой массой знакомого и полузнакомого народу, редевшей по краям в соответствии с общей разреженностью осеннего пространства – которое, однако, собирало тут и там из отдельных тощеньких деревьев иллюзорную рощу, из отдельных лотков и киосков – несуществующий торговый центр.
Иллюзорность толпы, где Антонов пребывал уже не первый час, делала его отсутствие во всем остальном примитивном пространстве крайне сомнительным; там чем дальше, тем явственней дома упрощались до своих типовых проектов, там имелось от силы четыре породы деревьев и десяток марок автомобилей; тексты вывесок и реклам, снабженные цветными картинками, были будто фрагменты букваря, – и надписи на ватмане, которые принесла с собой университетская демонстрация, казались всего лишь упражнениями, сделанными по этому уличному учебнику. Внезапно листовки хлестнули сильнее, зачастило глухое, как бы кастрюльное бряканье, и Антонов, рискованно приподнявшись на цыпочки, увидал, как один из омоновских щитов закачался и осел. Из-под щита, продолжая им нелепо прикрываться, ловя одной рукою на скользком граните пляшущий шлем, пополз камуфлированный здоровяк; он странно облизывался серым языком, размазывая по верхней губе кровавые усы. Пострадавшего подхватили под мышки, поволокли, отгоняя внезапного корреспондента с телекамерой, который выцеливал кадр с отрешенным упорством шмеля, елозящего по оконному стеклу в поисках выхода в пейзаж. Далее Антонову почудилось, будто он уловил отнесенный ветром командный выкрик. Омоновцы, оттеснив корреспондента куда-то вбок, пошагали по плитам, потом по ступеням, внезапно переставившим строй на ближний и реальный план. Из толпы послышался свист, выкрики какого-то дурного, буйного веселья; мимо Антонова, глупо хихикая и прихлопывая ладонями прыгающие гроздья кулончиков, проскакали вниз две долгогривые подружки со второго курса, за ними боком спускалась деканская секретарша, с лицом как борщ, все еще держа перед собой кусок разорванного ватманского лозунга с остатками слов и со множеством расставленных по краю восклицательных знаков. Уже совершенно перед носом Антонова плечистый молодец с бешеными белыми глазами лупцевал дубинкой не менее мощного на вид гражданского верзилу, отбегавшего мелким приставным шажком: всякий раз, когда дубинка протягивалась по телу сгибавшейся жертвы, слышалось утробное вяканье, будто придавливали малышовую резиновую куклу с пикулькой.
Сразу у Антонова окаменел и потянул давно нудивший мочевой пузырь, ноздри будто наполнились козлиной вонью школьного мужского туалета. Оттого, что омоновцы были размашисты, казалось, будто форма им мала, как тем достопамятным второгодникам, что устраивали Антонову сортирные «суды», – и, собственно, ему не оставалось ничего другого, как вцепиться в брус милицейского запястья и на удивление длинную минуту изображать на пару с врагом и его дубиной знаменитых рабочего и колхозницу. Потом Антонов, задохнувшись на лету, сокрушительно сел на гранит и клацнул зубами, все его естество как-то по-другому наделось на твердую палку позвоночника, в округлившихся глазах встали затоптанные листовки. Антонов не сразу понял, что в брюках расплывается теплое и липкое пятно, быстро превращаясь в холодный компресс; домой он приковылял, криво запахнувшись в порванный плащик, с болезненным ощущением в позвоночнике, будто там заело, как в негибкой железной «молнии». В конце концов зарплату за август—сентябрь выдали всем одновременно; ее, конечно, не хватило на новые брюки и плащ, – впрочем, уже настала сырая нежная зима, в плаще как будто не было нужды, а загадывать на какое-то будущее (вторгавшееся в зиму гнилостными ветреными оттепелями) казалось так же глупо и непрактично, как готовить имевшееся у глупой тещи Светы смертное белье.
Вика, так и не восстановившаяся в университете, сделалась дерганой, ее неверные движения казались что-то означающими жестами, в то время как она всего лишь хотела дотянуться до книги или намазать бутерброд. Ее прекрасно загорелый прототип – демон с хрустальными глазами и сухими бумажно-белыми ладонями – пребывал в одном хорошем местечке Южного полушария, где полеживал на тонком соленом песке, хранившем посеребренные морские ракушки, или посиживал с запотевшим, буквально обтекающим бокалом прохладительного в жесткой, лишенной трепета тени как бы от чего-то сломанного – жалюзи, или забора, или целого дощатого дома, – а оригиналы теней, тропические растения, красовавшиеся на берегу океана, точно на огромном подоконнике, меланхолично шуршали на ровном ветру. Бедная Вика в своем романном пространстве смутно ощущала, где должна была бы находиться в действительности; ее приводила в тоскливую ярость самая мысль о затхлой темноте университетского коридора, напоминавшего убогостью и запахами столовской тушеной капусты какую-то громадную коммуналку. Деньги сделались главной Викиной заботой; ей мерещилось, что как только кончится очередная порция денег, с ними кончится и жизнь, а вместо жизни наступит неизвестность, из которой не окажется выхода даже при помощи отложенного самоубийства – потому что будущее (она это тоже чувствовала) уже обладало всеми свойствами небытия.
Теперь, чтобы умереть, не надо было делать ровно ничего, даже пальцем шевелить; поэтому Вика после первого периода домашнего обустройства хронически впала в безделье. Антонов, прибегая с лекций, находил на кухне грязные тарелки с размазанной желтизною утренней яичницы, возле них всегда валялась Викина расческа, такая же черная у корешков, как и ее отросшие волосы – особенно жалкие после мытья шампунем, слабенько-пушистые, с нерасчесанным колтуном в ложбинке цыплячьей шеи, точно такие, какие были у нее тогда на больничной подушке. Вся она, сутками сидевшая в сумерках квартиры, сделалась такая нездорово-бледная, что казалось, тронь ее тропическое солнце, будет не загар, а только хлорофилл. Вика действительно – не только разумом, но словно бы и кожей – утратила связь с окружающей средой; даже физиономия Павлика, по-прежнему хранимая в конфетной коробке, стала ей казаться какой-то противной, чем-то сходной с одутловатой рожей соседа-алкоголика, возвращавшегося, бывало, за полночь, одновременно с Викой и ее случайным провожатым, и шаркавшего по скосам лунной заплеванной лестницы, протянув перед собою синюшные толстые руки, словно восставший из могилы мертвец.