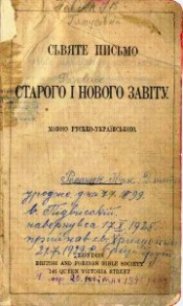Евангелие от Пилата - Шмитт Эрик-Эмманюэль (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Храни здоровье.
Я все еще жду.
Каждое мгновение я нахожу новую причину, объясняющую задержку моих когорт: я принимаю во внимание расстояния, часы движения, приема пищи и необходимого отдыха, усталость лошадей. Но нетерпение есть жажда, которую не удовлетворяют оправдания. Мне хочется спрыгнуть с Антониевой башни, броситься в пустоту и взлететь над Галилеей. Меня бесят мои люди, я упрекаю их в излишней мягкости. Мне кажется, что на их месте я скакал бы галопом без раздумий и колебании к овчарне или к постоялому двору, где укрываются Иосиф и Иешуа. Мне не нравится быть начальником, который отдает приказы и в тщетной тоске ждет их беспрекословного исполнения. Я бы предпочел занять место одного, даже самого худшего из своих солдат, чтобы обыскивать кустарники острием копья, опрокидывать стога сена, прощупывать тюфяки и вскрывать сундуки.
Фавий пришел попрощаться со мной. Он продолжает свой путь. Он тоже направляется в Назарет. Феномен Иешуа интригует его, но не более. Он не верит, что это именно тот человек, о котором объявили астрологи, ибо многих знаков не хватает: знака царства и знака Рыб.
— Пока речь идет о нищем, который заставил говорить о себе. Даже если за ним следуют тысячи более или менее вшивых евреев, он не соответствует портрету того нового Царя мира, которым я располагаю.
Я молчал, не спуская глаз с западных дорог. Я не осмеливался сказать ему о Клавдии и попросить его, если он встретит мою жену, передать ей, как мне ее не хватает.
Он словно угадал мои мысли.
— Думаешь о моей сестрице, Пилат?
— Да. Глупо. Но любовь делает нас такими слабыми.
— Напротив, Пилат, любовь делает сильным.
Я в удивлении повернулся к Фавию и внимательно посмотрел на него. И увидел не соблазнителя с блестящими глазами и улыбающимся нагловатым ртом, полном хищных белых зубов, а печального человека, чьи плечи сгибались под грузом невысказанной печали. Впервые Фавий не вызывал во мне духа соперничества и ревности, а просил о снисхождении. Он повторил:
— Любовь действительно делает сильным. Если ты, Пилат, выглядишь стойким, сильным, непоколебимым, то не только потому, что хороший пловец и наездник, но и потому, что любишь Клавдию, а она любит тебя. Мне кажется, что именно она — твой истинный становой хребет.
— Ты никогда не говорил мне такого.
— Никогда ничего никто не говорит, потому что все постоянно только болтают.
Меня поразили его слова, но мне не хотелось прерывать его.
— А ты, Фавий, кого-нибудь любишь?
— Я? Я всегда бегу за тем, что движется, но никого не удерживаю. Я, Пилат, всего лишь безвольный человек, иными словами, человек, утративший веру в себя. Время от времени, когда я перестаю испытывать уважение к себе, пытаюсь найти его во взглядах других. Мой облик загоняет женщин на мое ложе; я падаю на него вместе с ними. Я обманываю свою жажду любви, заменяя ее любовными играми. Но я не способен на глубокие чувства. После двух или трех объятий я понимаю, что надо идти дальше, открыть себя, открыть других, обнажить свою душу перед другими. А сам предпочитаю гулять с голой задницей, а не с обнаженной душой. Я участвовал во всех римских оргиях, ни на мгновение не раскрываясь ни перед кем. Ты, напротив, как мне кажется, постоянно остаешься самим собой. А причина тому — Клавдия.
Я улыбнулся, заставив его опустить глаза.
— Сейчас, Фавий, ты открываешь душу.
— Вовсе нет. Когда говоришь о себе плохо, то как бы прячешься в раковину, особенно если умеешь найти подходящие слова: они становятся одеждой.
Фавий ушел. В момент, когда я пишу тебе, я вижу, как он удаляется по кипарисовой аллее; он сидит на лошади прямо, а за ним следует дюжина рабов, которые тащат его сундуки. Охраняют его четыре громадных нумидийца. Он обойдет наше море в безуспешных поисках Царя, которого просто не существует. Он ждет от жизни чего-то, что она ему не может дать, а его идиотское ожидание, которое мешает ему жить, и есть его истинная страсть. Почему люди без толку опустошают тот сосуд, что наполнен до краев?
Но, дорогой мой братец, я слышу лошадиный топот на главном дворе. Вернулась еще одна когорта. Мои солдаты с радостью целуются, поздравляют друг друга: я слышу, что они привезли Иосифа и Иешуа!
Спешу расстаться с тобой. Главное тебе уже известно. О деталях прочтешь завтра.
А пока не теряй здоровья.
Я только что присутствовал на одной из самых недостойных комедий, разыгранных передо мною. Я был так уязвлен тем, что надо мной издеваются и принимают за полного дурака, что у меня на губах выступила пена, и в какое-то мгновение я был готов совершить убийство. Не знаю, что меня удержало в последний момент. Я чуть не удавил Иосифа; быть может, презрение есть то спасительное чувство, которое останавливает карающую руку, когда перед тобой разыгрывают спектакль, абсурдный, бесчестный, призванный скрыть истину за плотной дымовой завесой.
Мои люди привезли только Иосифа из Аримафеи. Иешуа еще в бегах. Из предосторожности центурион Вурр арестовал всех, кто сопровождал Иосифа, но я и сам видел, что Иешуа среди них не было.
Я велел зажечь все факелы в зале совета и допросил Иосифа из Аримафеи:
— Где Иешуа?
— Не знаю.
— Где ты его спрятал?
— Я его не прятал. Я не знаю, где он. Я сам его ищу.
Чтобы не терять времени, я дал пощечину старику Иосифу. Он стоял в круге из пяти факелов, которые чадили и трещали, заливая комнату неверным желтым светом. Я потребовал, чтобы он перестал притворяться, и изложил ему все, что знал, потому что разгадал его замысел.
Иосиф стоял передо мной на своих старческих тощих ногах, которые выглядывали из-под пыльного, заляпанного пометом плаща из коричневого сукна.
Он вытянул руку вперед и сказал, что отвергает все обвинения.
— Клянусь тебе, Пилат, что Иешуа был мертв на кресте. В свой склеп я уложил тело мертвого человека.
— Конечно. Я не ожидал, что ты тут же сознаешься. И ты мне также поклянешься, что он воскрес.
— Нет, в этом я клясться не буду, потому что я его не видел.
Из глаз его в красных прожилках текли слезы на изрытые морщинами щеки. А потом влага терялась в серой бороде.
— Он явился многим людям, но не мне. Я нахожу это несправедливым. Я столько для него сделал.
Он перестал сдерживаться и заплакал навзрыд, плечи его сотрясались от рыданий.
— Я ухаживал за ним до самого последнего мгновения, а он предпочел являться неизвестным людям, тем, кто боялся, тем, кто его предал!
Он повалился на пол, вытянулся, раскинул руки крестом и прижался лицом к ледяной плите:
— О Боже, прости мне эти слова. Я стыжусь их! Но не в силах сдержать своей ревности! Да! Ревности! Я умираю от ревности! Прости меня.
Я с ужасом отступил. Я был готов убить Иосифа, если он не замолчит, не перестанет принимать меня за кретина, если не признается в очевидном заговоре. Когда преступник вопит о своей невиновности, он издает пронзительные звериные крики, оскорбляя ими судей и пронзая уши бесполезным визгом забиваемой свиньи.
Я велел страже поднять старика и бросить его в темницу. Мои остальные когорты методично прочесывают земли в поисках Иешуа. Без покровительства Иосифа, без его помощи, власти, слуг, назаретянин стал крайне уязвимым. Без сообщника он не сможет долго скрываться. Еще немного терпения, хотя это слово куда легче произнести, чем действительно запастись терпением, этой необходимой добродетелью.
Я все еще колеблюсь и не пишу отчета Тиберию. Я должен был бы поставить его в известность после первых же подозрений об опасности бунта в связи с делом Иешуа. Но все эти дни мне казалось, что я все ближе подхожу к его разгадке, все лучше владею ситуацией. Я вышлю полный подробный отчет в Рим, когда дело будет закрыто. Я должен сообщить о результатах своей работы, а не о своих усилиях, а тем более сомнениях. Ты, дорогой мой брат, единственный, кому я поверяю свои тайные думы. Надеюсь, что, несмотря на тяжкий груз моих мыслей, которыми полны мои письма к тебе, ты чувствуешь себя здоровым.