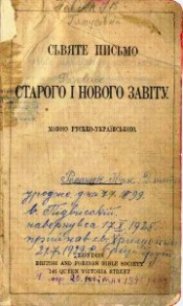Евангелие от Пилата - Шмитт Эрик-Эмманюэль (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Я постепенно приходил в себя, возвращался к жизни, я повторял себе, что люблю возню своих солдат, что люблю их грубые плебейские лица, на которых улыбка стирала беспокойство.
Иосиф очень долго приходил в сознание. Наконец я увидел, как его синий глаз с белыми слоями возрастной катаракты открылся навстречу небу. Он повернулся ко мне:
— Ты понял?
Да, я понял. Пряности и ароматные травы, уложенные в могилу, чтобы замедлить разложение и проводить усопшего в далекий путь, делали воздух губительным, им нельзя было дышать, он вызывал удушье. Иешуа, будь он умирающим или в добром здравии, не смог бы долго пробыть в этой отравленной камере.
Солдаты поставили нас на ноги и довели до фонтана, где мы спрятались в тени фиговой пальмы.
Я все еще противился тому, что показал мне Иосиф. Кто мне мог доказать, что травы в могилу Иешуа не были принесены после его ухода? В тот самый момент, когда он уходил?
Иосиф читал мои мысли у меня на лице.
— Уверяю тебя, Никодим принес свой подарок до того, как в склеп доставили труп.
Я не был уверен. Это было просто еще одно свидетельство. В деле Иешуа все радикально менялось с каждым новым показанием. А что есть более хрупкого, чем показания? Как поверить этим евреям, которые в любом случае хотели с самого начала видеть в Иешуа Мессию?
Иосиф улыбнулся мне и порылся в складках плаща. Он достал пергамент, обвязанный хорошо мне известной ленточкой, под которую была просунута веточка мимозы.
Я вздрогнул.
Иосиф протянул мне пергамент. Он знал, что я понял. Клавдия Прокула доверила ему послание ко мне.
— Кому верить? Кому не верить? Мой добрый Пилат, — вздохнул Иосиф. — Я знаю, что ты веришь лишь одному человеку. Прочти.
Я развернул письмо.
Пилат,
у подножия креста находились четыре женщины, чьи лица были закрыты покрывалами. Мириам из Назарета, его мать. Мириам из Магдалы, бывшая блудница, которую Иешуа ценил за доброту и ум. Саломея, мать Иоханана и Иакова, учеников, которые поддерживали несчастного назаретянина. А четвертой была твоя супруга, Пилат. Я не осмелилась признаться в этом ни тебе, ни кому-либо другому. Я укрылась за несколькими слоями шелка, чтобы никто, даже мои спутницы, не узнал меня. И могу заверить тебя, что мы укутывали в погребальное полотно его окоченевшее ледяное тело. Иешуа действительно умер. Я просто рыдала от отчаяния. Я была глупа. Я недостаточно верила в него. Теперь свет озарил меня. Быстрее присоединяйся ко мне на пути в Назарет. Я люблю тебя.
Твоя Клавдия.
Прошло два дня, как я не писал тебе.
Я был далек от всего, в том числе и от собственных мыслей. Тысячи смутных образов теснились в моей голове, но ни один не задерживался, не замирал достаточно надолго, чтобы стать мыслью, обрести окончательную форму. Опавшие листья, гуляющие по воле ветра.
Я замкнулся в немоте и глухоте. Я испытываю глубочайшее равнодушие к тому, о чем мне докладывают, что пишут, требуют. Я видел порой равнодушие пресыщенных, тех, кого уже ничто не может удивить. Но не знал о том равнодушии, которое настигло меня, равнодушии испытавшего шок человека, человека, которого однажды удивили так сильно, что он не желает более столь же сильного потрясения. Мир кажется мне опасным, новым, непредсказуемым, и я предпочитаю удалиться от него. Представь себе ребенка, который вышел из чрева, где ему было так хорошо, и закричал, ибо испытал холод, задохнулся, ибо ему надо дышать, увидел кровь, коросту, миазмы, разорванную плоть, ощутил боль, подметил удивленный взгляд отца, изможденный взгляд матери, перепуганные взгляды братьев, подозрительный взгляд повитухи, а потому вновь схватился за пуповину и закричал: «Оставьте меня, я возвращаюсь обратно». Я и есть этот новорожденный, получивший неизлечимую травму.
Я — новое существо, но уже испытываю тоску по миру, который знал ранее.
Меня не увлекает тайна Иешуа. Сегодня я признаю, что дело Иешуа не только загадка, но и тайна. Нет ничего более успокоительного, чем загадка. Это — задача, ожидающая возможного решения. Нет ничего более угнетающего, чем тайна: это — задача, не имеющая решения. Она заставляет думать, воображать… Я не хочу думать. Я хочу знать, ведать. Остальное меня не интересует. Именно поэтому я два дня храню долгое, сосредоточенное молчание, молчание тяжелое и недвижное, подобно мраморной урне.
Кратериос разбудил меня.
Он пришел позавтракать со мной. Он ел с такой жадностью и такой неряшливостью, что насыщал одновременно и ноги, и рот.
Он вновь заговорил об Иешуа. Я попросил его сменить тему. Он рыгнул и сел на стол, раздвинув ноги и выпятив свои мужские достоинства.
— Нет-нет, я должен сказать тебе, что интересуюсь им с тех пор, как Клавдия Прокула — какая превосходная женщина, и куда она подевалась? ведь ты действительно ее не заслуживаешь — поделилась со мной своими соображениями. Но я в конце концов разочарован. Мы, философы-киники, стремимся бороться со страданиями. А у меня возникло ощущение, что Иешуа, наоборот, восхвалял страдания, видел в них величие, наделял их пользой искупления. На самом деле ему наплевать на земное счастье, он говорит о будущем счастье в безграничном Царстве после смерти. Это мне кажется до смешного туманным! Я все больше и больше подозреваю, что Иешуа наделен волей творить ангелов, а не зверей. Вместо подчинения, как это делал наш учитель Диоген, природе, движению по кратчайшему пути пса, он пытается с абсурдным упрямством подчинить нас духу. Он пьянеет от тайны. Он говорит о заоблачном Боге. Он окончательно выходит за пределы нормальной философии. Особенно когда говорит о любви. Удивительно. Я впервые слышу, чтобы философ говорил о любви. Какое грубое заблуждение! На любви нельзя ничего построить. Любовь не принадлежит к философской категории. Любовь — всего лишь понятие, которое устанавливается путем рассуждения или анализа. Я отказываюсь принимать то, что Иешуа строит на любви всю свою мораль.
Я впервые включился в игру вопросов и ответов, ибо раскатистые утверждения Кратериоса огорчали меня.
— Быть может, интерес и состоит в том, о чем он говорит! А он говорит о любви! Когда я наблюдаю, куда тебя заводит чистый разум, то не понимаю причин, по которым ты пыжишься от гордости.
— Пилат, какая муха, тебя укусила?
— Ты меня доконал, Кратериос. Ты только тень обмана! Ты считаешь себя мудрецом, хотя никогда и никому не протянул руку помощи, никогда и никому не улыбнулся, никогда и никому не принес ни малейшего утешения. Ты болтаешь, болтаешь, а все твои действия сводятся к бесполезному шуму, который ты производишь! Ты — обычный паразит, который живет за счет труда тех, кого презирает. Твои рассуждения, когда они адресуются другим, имеют главной целью вызвать шок. Когда ты адресуешь их себе, ты кичишься своим умом. Но ты суетен! Ты — Афины! Ты — Рим! Ты думаешь только о себе, ты говоришь только о себе, ты всего-навсего напыщенный эгоист!
Кратериос спрыгнул со стола и громко пукнул.
— Наконец! Я доволен, что ты покончил со своей сдержанностью, Пилат. У меня складывалось впечатление, что ты умер.
— Кратериос, не делай вид, что контролируешь ситуацию, что ты вызывал меня на гнев! И если уж говоришь мне об Иешуа, то ответь на один главный вопрос: воскрес он или нет?
Кратериос возложил свою громадную лапу мне на лоб.
— Мой бедный Пилат, ты слишком долго пробыл в Палестине: солнце в конце концов справилось с тобой.
— Воскрес он или нет? Он просто мудрец или Сын Бога? Мессия ли он?
К своему собственному удивлению, я выкрикивал эти вопросы и чуть не плакал. Я не мог сдержаться.
Кратериос задумчиво почесал промежность и сказал:
— Еще никто никогда не воскресал.
И я не сумел сдержаться, чтобы не рявкнуть ему прямо в ухо:
— Как ты можешь заведомо знать, что правда и что неправда? Что возможно и что невозможно? Ты действительно веришь, что знаешь все о сотворенном мире? Пока ты не пришел в эту жизнь, кто мог предположить, что будет существовать столь отвратительный и бесполезный тип, как Кратериос?