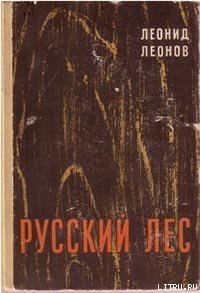Пирамида, т.2 - Леонов Леонид Максимович (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Как всегда за городской чертой, спать в Старо-Федосееве ложились рано. По житейской надобности задержавшись у кладбищенских ворот, Никанор заодно полюбовался на природу. Поутру предпоследняя в сезоне метель припорошила отяжелевший мартовский наст, – до удивленья девственно и дико сияла обезлюдевшая окраина. Ни лая, ни скрежета трамвайного не слышалось окрест, только радиоточка, посреди пустыни, железным голосом распевала на столбе, что жить завтра станет вдвое веселей. Песня была та самая, вещая, что сочилась давеча к Вадиму в непромазанные рамы. Никанор потянулся всласть до полноты здоровья, и впрямь прихваченная вешним морозцем предблаговещенская ночь 1940 года была чудо как хороша!
Вступая на крыльцо, он решил зря стариков не пугать, сославшись, будто Вадима дома не застал. Ввиду обычной тогда волокиты с прохождением проектов и смет необоронного значения, можно было и не опасаться, пожалуй, срочного старо-федосеевского сноса под намеченный стадион Всенародной дружбы. Рисовалось более благоразумным вообще отложить повторный набег на Вадима до конца месяца, а тем временем, глядишь, и мерехлюндия порассосется у поскользнувшегося сановника. Меж тем и двух дней не прошло, как тот сам пожаловал к ним в домик со ставнями.
ЗАПАДНЯ
Глава I
Полностью раскрывшаяся ничтожность Вадима Лоскутова как исторической личности настолько очевидна для нашей целеустремленности к своему, не за горами теперь, блистательному грядущему, социальное происхождение так порочно, а сопровождавшая его катастрофу националистическая идея настолько сама говорит за себя, что биография его вряд ли может увлечь нынешнего передового мыслителя. Совсем другое дело, если воспринять ее как следственный материал кое-чьей интриги против задержавшегося в служебной командировке ангела, чтобы извлечь полезный урок для трудящихся, неверующих в том числе, на какие хитрости пускается иногда враг рода человеческого, в какие бы ризы ни рядился.
Предстоит, возможно, пристальнее вникнуть в состав мнимого преступленья, на взлете прервавшего карьеру начинающего трибуна. По незнанию истинной кухни, некоторые современники приписывали столь стремительное возвышение высокому и лестному, мимоходом где-то оброненному отзыву по поводу его выступления на случившейся юношеской конференции, что подтверждалось, кстати, отдельным его изданием, впоследствии уничтоженным. Похвала исходила не от самого вождя, а лишь от влиятельнейшего соратника его Скуднова, но и скудновское покровительство доставляло фавориту, помимо политической неприкосновенности и житейской благодати, подобие некоторого величия, чуть ли не святости, – правда, не слишком долговременной. При своей аскетической принципиальности Вадим очень скоро стал замечать сопровождавший его всюду луч удачи. И поскольку любой вид тепла, даже технического, считался тогда отраженным от главного светила, то благодарное сознание, по склонности всего живого к ласке, естественно умножало его давнюю и целомудренную, почти влюбленную преданность. И так как застольное или ораторское умолчанье считалось маской злоумышления, то самый стиль эпохи повелевал выражать свою обязательную признательность ему, возможно, изобретательней и громче в самозащиту от ревнивых и бесталанных клевретов с их длинными пальцами доносной указки. Так прямым следствием свыше десятилетнего соревнования было узаконено к концу тридцатых годов, что священная особа цезаря является единственным движущим началом всему на свете – благу народному, радостям материнства и надеждам младенчества, вдохновенью творцов и тружеников... словом, само имя его – первоисточник всех когда-либо одержанных прогрессивных побед, ибо все прошлое нации и человечества – их слава и подвиги – лишь предысторический разбег вызревания к его подножью. К несчастью, качество лести целиком зависит от процентного содержания в ней низости, откуда проистекал ряд томительных, чисто моральных неудобств, в частности состоящее в постоянном ощущении на темени у себя его шершавой ладони, то ласкательной, то в явном раздражении на какую-то злосчастную родинку, затрудняющую ему державное оглаживание.
Все возраставшее, лишь наследственной нервозностью объяснимое ожидание, что однажды ему раскрошат череп, и побудило Вадима на его поистине самоубийственную попытку перевоспитать великого вождя. Косвенным средством должно было послужить изготовленное им, по размеру небольшое и с уклоном в художество, псевдоисторическое сочинение, хотя не обладал для того ни нужными сведениями, ни тем более талантом. Не собираясь стать писателем, Вадим руководствовался бытующим в Европе мнением, что интеллигентному человеку положено, к примеру, перевести Вергилия английскими стихами, равно как у нас в последние годы право излагать свои переживания в виршах и прозе с последующей публикацией их стало прочным завоеванием всех трудящихся. Седая старина избранной им эпохи, предоставляя обширное поле для фантазии, служила надежной ширмой для искусно вправленных намеков, кстати, тогда не возбранялось описывать патологическое тщеславие давнопрошедших деспотов да еще сорокавековой давности... Таким образом, произведение Вадима Лоскутова являлось зашифрованным посланьем властелину. Авторский расчет сводился к тому, что грозный адресат по прочтении его увидит себя в зеркале художественного образа, в чем и состоит единственный смысл литераторского общения с читателем, устыдится обличительного сходства фактов, ужаснется сюжетному пророчеству и, тронутый отвагой предостережения, обнимет его на вечную дружбу.
По завершении гражданской войны стихия социальной бури, с ходу устремившаяся за рубеж, порождала там равной силы потенциал противодействия. Газетная молва, донесенья послов и соглядатаев, раздумья над политической картой Европы, даже простонародные знаменья – все сводилось к неминуемому впереди столкновенью полярных идей. Судя по сложившейся обстановке, возглавить штурм отжившей старины предстояло тогдашнему хозяину страны, взращенному на корнях иной породы. Как и до него, пришлых чужеземцев на Руси повергали в смятение чересчур скорые, со слезой льстивого умиленья овации туземцев и витиеватые, на византийский образец, акафисты придворной знати и челяди, самая речь подданных на диалекте в триста казенных слов, но пуще всего тревожная, обок с гробницами русских государей, полночная кремлевская тишина с жутким скрипом приоткрываемой двери, шорохом крадущихся шагов. Так в бессонные раздумья о назревающей схватке миров невольно врезались памятные картинки здешней старины вроде бунтовского, с пальбой и матерщиной разгула стрелецкой вольницы как раз под отблеск пылающей столицы на щеках завоевателя в треуголке, вздумавшего сквозь зубцы крепостной стены полюбоваться на трофей, либо мимоходное, на боярской пирушке усекновенье башки у подвернувшегося самозванца, либо тут же поблизости несчастная случайность с родным царевым дядей, чью недостающую голову позже отыскали на крыше соседнего здания. Сказанное позволяет предположить, что всевластный повелитель страны пребывал там пожизненным узником среди бескрайней пустыни своего царственного одиночества.
Апофеоз всемирной славы ожидал героя, которому удалось бы воплотить в реальность давнюю мечту людей о всеобщем счастье. Ситуация несколько осложнялась тем, что задуманная перестройка человечества по необходимости глубинного вторжения в генетические тайники нашего естества являлась скорее биологической, нежели социальной, и потому представлялась бессмысленной без воспитательной обработки длительностью века в полтора, в свою очередь немыслимой по лимиту оставшейся жизни великого вождя и отсутствию достойного ему преемника с такой же диктаторской хваткой. Впрочем, как все восточные властелины, он не терпел соперничества, считая противника личным врагом, а по собственной его обмолвке в кругу друзей, у мужчины нет лучшей услады, чем мщенье врагу. У достигшего абсолютной власти ночным советником становится подозрение. В лупу бессонницы всякая мелочь тогда – смущенный взгляд, замедленный ответ, досадная обмолвка, даже проблеск ума – буквально все чудится властелину уликой вызревающего заговора. И в самом деле, в помысле творимые злодеяния всегда оперативней и хитрей совершаемого в действительности. Здравый смысл вынуждал завершить дело в наикратчайшие ударные сроки, желательно при жизни, чтобы самому триумфально вступить в страну обетованную. Однако скоростная такого рода операция была чревата судорогой сопротивленья, запросто способной разразиться той самой российской внезапностью. И так как за всеми было не уследить, то, образно говоря, у вождя не имелось иного средства отбиться от ночных призраков, неслышно штурмующих его твердыню, как до рассвета навевая подданным леденящие сны посредством боевых залпов из всех кремлевских амбразур вкруговую и наугад без надежды прицельно нашарить сердце затаившегося бунтовщика, но с печальной вероятностью каждого там внизу, в потемках, сделать мишенью. Так, единственно по процентно-статистической разверстке, на глазок, велся в стране отстрел классового врага, что порождало в населении вредные домыслы об истинных целях творящегося опустошенья.