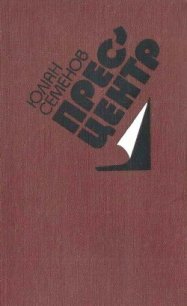При исполнении служебных обязанностей - Семенов Юлиан Семенович (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
Морозов поднял его, взвалил на спину и побежал дальше. Он бежал и думал: только ли здесь начал ломаться лед или в лагере происходит то же самое? И еще он думал о том, что, не пойди с ним пес Шустряк, они бы сейчас были уже в холодной зеленой воде. Вернее, их бы не было. Их тела, исковерканные и изуродованные льдом, сейчас висели бы в воде, погребенные навсегда и для всех.
10
Ничего не помогало: самолет медленно, но верно обледеневал. Богачев уходил вверх, он бросал машину вниз и шел на бреющем полёте, он делал все, что мог, но ничего не помогало. Машину тянуло вниз, на воду. Она сделалась тяжелой и неподатливой. И чем дальше, тем тяжелее и неподатливее становилась машина.
Володя Пьянков теперь сидел рядом с Богачевым, на месте второго пилота, и помогал Павлу удерживать штурвал. Надо было все время тянуть штурвал на себя, чтобы хоть на время отдалить тот миг, когда самолет, сделавшись тяжелым той загранной, технически недопустимой тяжестью, шлепнется в воду.
Богачев держал штурвал у груди, отвалившись назад, и это мешало ему смотреть вперед и по сторонам. Когда только началось обледенение и он понял, что спастись от него невозможно, потому что путь на «СП-8» шел через низкую облачность и туман, Павел стал высматривать льдину для посадки. Но под самолетом медленно проходила тяжелая вода океана, ставшая из-за низкой облачности и тумана черной и зловещей.
Теперь, когда приходилось удерживать штурвал огромным напряжением мускульной силы, Богачев не мог смотреть вперед. Пот заливал глаза. Чтобы удерживать штурвал у груди, надо было как можно крепче упираться плечами в спинку кресла.
Поэтому сейчас было видно только небо. Вернее, то, что обычно называют небом.
Неба настоящего не было — была серая кашица, противная, как октябрьская липкая грязь.
— Нёма, — попросил Павел Брока, — узнай, как дела на «Науке», сообщи наши координаты на восьмерку и стань рядом: поищи льдинку.
— Есть.
— Геворк, нам еще далеко?
— Примерно час сорок минут лёту.
Богачев сразу же вспомнил струмилинский рассказ о том, что отец не признавал слова «примерно». Он очень сердился, когда слышал это слово, и всегда требовал точного ответа — до секунды.
«Отец был прав, — подумал Павел, — только так можно было поступать в обычные дни, когда рейс проходил спокойно, а не так, как сейчас. Учить надо в спокойной обстановке. И потом я не имею права никого учить, потому что я сам ученик».
— Спасибо, Геворк, — сказал Павел.
— Я передал координаты, на «Науке» все спокойно, «СП-8» дает плохой прогноз. Видимости почти нет.
— Хорошо. Ищи льдинку.
— Есть.
Павел посмотрел на Володю Пьянкова. Тот был в поту, и у него дрожали жилы на шее от напряжения. Пьянков тоже посмотрел на Богачева. В глазах у него была злость и совсем не было страха. Он тянул на себя штурвал что было силы. Павел подумал, что если им придется так держать штурвал еще в течение десяти-пятнадцати минут, то силы вконец оставят их.
Богачев вспомнил, как он штурмовал Эльбрус два года тому назад. Там был один парень — сильный и красивый. Он первый поднялся на вершину и сказал:
— Мускульное напряжение при спуске — для зайцев. Считайте меня соколом.
И, оттолкнувшись палками, он понесся вниз на лыжах.
— Стой! — закричал ему вслед руководитель восхождения.
Но парень не остановился. Он исчез в белом сверкающем снежном поле. Оно, казалось, просматривалось далеко-далеко, вплоть до скал, черневших внизу. Но парень исчез в этом открытом снежном поле через мгновенье. Его нашли через час.
Он был внизу, у самых скал. Он лежал на спине, и из носа и изо рта хлестала кровь. Резкий спуск вниз, с неба на землю опасен так же, как и резкий взлет с земли в небо.
— Володя, — сказал Богачев, — давай попробуем постепенно отпускать штурвал, а потом так же постепенно принимать его на себя. Только постепенно, а не резко.
— Есть…
Они стали постепенно отпускать штурвал. Самолет шел по-прежнему совсем низко над океаном. Но он не стал опускаться еще ниже, хотя Богачев и Пьянков слегка отпустили штурвал.
— Хорошо, — приговаривал Богачев, — очень хорошо, Володя, просто очень хорошо…
Так продолжалось минуты две-три. Потом самолет резко повело вниз. Пьянков хотел было принять штурвал резко на себя, но Богачев сказал:
— Спокойно, Вова.
И начал осторожно выжимать штурвал на себя. Но самолет тянуло вниз. Его тянуло вниз неуклонно — невидимой и страшной силой. Так у Павла бывало во сне. Во сне всегда самое страшное — всемогущее, и ничего с ним нельзя поделать. Победить это всемогущее и страшное можно только одним — надо проснуться. Павел зажмурился, потом резко открыл глаза, снова зажмурился и снова открыл глаза, но увидел он то же, что и мгновение назад. Он увидел серую хлябь неба и зеленоватый стеганый чехол на потолке кабины.
— Резко! — скомандовал он Пьянкову. — Резко, Вова!
Они враз приняли штурвал на себя. Самолет затрясло, как больного лихорадкой. В кабину заглянул Женя Седин из морозовской экспедиции.
— Плохо, ребята? — спросил он.
Ему не ответили. И Аветисян и Брок, схватившись за штурвалы Володи и Богачева, помогали им. Самолет трясло по-прежнему, но он перестал идти вниз. Теперь он шел по прямой, но его все время трясло.
— Ребята, — повторил Седин, — это я к тому, что, может, успеем домой радиограммку, а?
— Возьми в аптечке валерьянки, — сказал Аветисян, — и выпей весь пузырек до дна. Это иногда помогает.
Но самолет трясло все сильнее и сильнее. Звуки, появившиеся в самолете, походили на рев сотни бормашин в кабинете зубного врача. И потом все время что-то противно дребезжало. Пьянков и Богачев снова посмотрели друг на друга, и в глазах у них были злость и недоумение…
11
«Я старался заменить Жеке мать, но так же, как искусственное сердце никогда не заменит настоящего, так самый заботливый отец не заменит матери, пусть даже беспутной. А моя Наташа была прелесть и чистота, — думал Струмилин. — И все это я говорю сейчас, потому что полюбил парня, который сидит справа от меня. У Жеки нет матери. А в любви мать зорче своего ребенка. Жека может не увидеть его и не понять. Я понял его, но я — отец. А всякий совет отца дочери — диктат. Я так считаю, и меня трудно переубедить в этом».
Струмилин попросил Воронова:
— Геня, дай папиросу.
Морозов сказал:
— Павел Иванович, никакой папиросы не будет.
— Да?
Морозов улыбнулся и повторил:
— Не будет.
— Мне лучше сейчас.
— Я вижу.
— Ей-богу, меня вроде отпускает.
Морозов засмеялся.
— Володенька, дайте папироску. Христа ради.
— Христа ради хлеб подают. Папиросу — грешно. У меня мама верующая, она бы наверняка обиделась.
Струмилин улыбнулся. Ему действительно стало чуть легче. Он лежал и смотрел в низкое серое небо. Он долго смотрел в небо, а потом увидел, как пролетела пуночка — единственная пичуга, забирающаяся сюда.
— Володя, — сказал Струмилин, — ладно, не давайте мне папиросы. Пойдите в палатку и передайте радиограмму в Диксон с немедленной ретрансляцией в Москву. Ладно?
— Конечно. Сейчас возьму карандаш и запишу.
— Там нечего записывать. Вы запомните так: «Кутузовский проспект, 22, квартира 123, Струмилиной Жене. Я тебя очень прошу выйти замуж за Павла, если он этого захочет. Отец». Запомнили?
— Это не так уж трудно.
— Передайте, Володя.
— Хорошо. Я сейчас передам. Только почему бы вам не сказать ей при встрече, дома?
— Телеграф категоричней, — улыбнулся Струмилин и закрыл глаза. Ему все больше и больше хотелось спать.
«Наверное, это хорошо, — подумал он. — Когда проходит боль, всегда хочется спать. И когда проходит страх, тоже хочется спать».
Как бы сквозь сон он увидел поле Тушинского аэродрома. Это был тридцать седьмой год, лето. Он тогда занимался парашютизмом. Он был инструктором и готовил парашютистов к прыжкам во время воздушного парада. Все прыгали хорошо… С шестисот метров. А один парень выпрыгнул, и у него не раскрылся парашют. Он упал на поле и подскочил раза три, будто хорошо надутый волейбольный мяч. Струмилин подбежал к нему. Парень лежал бездыханный. Никаких ран на нем не было, только когда его стали поднимать, он весь был как гуттаперчевый. Принесся на своей белой машине начальник парада. Он спросил: