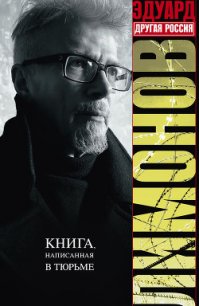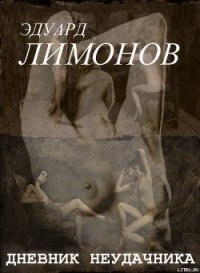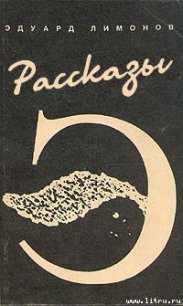Американские каникулы - Лимонов Эдуард Вениаминович (книги полностью .TXT) 📗
– Хочешь пососать, Лимон? – спросил он.
– Соси сам, – ответил я.
И твердо решил хорошо ему врезать. Не по роже. Посадить его на место. Если бы по роже, они бы меня побили – Алекс, казак и Шалва-грузин. Мне надоели его штучки.
– А я пососу, – сказал Алекс. – Хочешь минет, Лизка? – взглянул он наверх, в лицо Элиз. Та хихикнула, да и что вразумительного она могла сказать, даже если бы и хотела. – Я сделаю тебе минет, а Лимон посмотрит, – Алекс облизал свой палец, вынутый из Элиз, и победоносно посмотрел на меня. – Посмотрит и пострадает… Поревнует… Он ведь тебя любит…
– Охуел ты, Алекс… – сказал я, все же не сумев скрыть свое неудовольствие. – Я уехал из Нью-Йорка почти три года назад. И ни одного письма ей за это время не написал. Мы друзья с нею, и только. Совсем он охуел у вас?! – обратился я к казаку, Леле и Шалве.
Но приближенные главы космогенической школы только улыбались.
– Любишь… любишь, – пробормотал Алекс и взялся за Элиз.
Мне не было видно хорошо, что именно он там делает, потому что Элиз стояла все в той же позе – жопой к нам, но, очевидно, Алекс ебал ее пальцем и целовал, может быть, в самое начало пизды. Далеко проникнуть языком он не мог, мешали штаны, которые все еще были на лодыжках Элиз, а снять их и заставить Элиз поместить одну ногу на поручень трона он не догадался. Судя по мечтательным стонам, которые издавала Элиз, то, что делал с ней Алекс, ей нравилось.
– Ну как, приятно тебе, Лимон? – спросил Алекс, опять появившись между ног Элиз, – розовая рожа в шрамах, мокрые губы блестят, улыбочка все так же крива. – Больно, но приятно, да?..
И тут я подумал: «И что же я это говно жалею. Если он хочет войны, то пусть ему будет война. Я тебя проучу, Алекс». И я, очень задумчивым и строго отвлеченным тоном вдруг сказал негромко:
– Между прочим, Алекс, твоя жена и дочь ведь живут в Париже совсем одни, да?..
Улыбка исчезла с его лица. Его семья – жена и семнадцатилетняя дочь – всегда была его самым уязвимым местом. Он повелевал и помыкал ими с жестокостью восточного правителя. Они писали его картины, стаскивали с него пьяного сапоги, отмывали его от блевотины, терпели его любовниц… Ему было можно все, им – ничего. Дочь ненавидела его. Об этом он не знал, а если и знал, не верил.
Алекс молчал. Рожа его медленно серела и оставалась между ног Элиз, но он не вернулся к минету. Замолчали тревожно и Леля, и казак. Шалва впервые проявил эмоцию – вытаращил глаза.
В тревожном молчании присутствующих было особенно слышно, как я неторопливо и тщательно отсчитываю слова:
– А я, Алекс, часто захожу к твоим. Не забываю… Очень часто. Вот и на дне рождения твоей дочери недавно был… – Я помолчал. – Большая девочка стала… Сколько ей уже лет?.. Восемнадцать исполнилось или семнадцать?..
Молчание. Алекс моргнул между ног Элиз и посерел еще. Я знал, что сейчас произойдет, но мне уже было все равно.
– За девочками в этом возрасте нужен глаз да глаз… Как ты можешь быть уверен, что какой-нибудь негодяй, ну один из твоих многочисленных друзей, например… – Я помолчал опять, – не… не ебет твою дочь…
Он взревел: «Убью-уууу!» и бросился на меня. Элиз упала с трона. Я отклонился, и его кулак оцарапал мне ухо. Я вскочил со стула и пошел, минуя его, к двери. Он опять проорал: «Убью-уу!», ринулся на меня откуда-то сбоку и сзади и опять промазал, лишь чуть задев плечо. Я не хотел с ним драться, я абсолютно не чувствовал в себе нужной для драки злости. К тому же, в окружении его приближенных мне было не победить. И сам он, даже пьяный, был здоровенным мужиком… Я нажимал на кнопку элевейтора, когда надо мной ударилась о металлическую раму двери окислившаяся бронзовая скульптура. Ее, вырывая друг у друга, держали сразу двое – Алекс и казак. Шалва, удерживая Алекса сзади, замком стянул руки на его груди.
– Убью-ууу! – в последний раз проорал Алекс и затих. – Пустите меня, паскуды! – швырнул он подчиненным.
– Алекс, Алекс… ты не прав… – бормотали они, но не отпускали.
– Я не буду его бить! – проревел Алекс, и они его отпустили, но скульптура осталась в руках казака.
Элевейтор приехал, и открылась дверь. Алекс закрыл мне дорогу.
– Ты никуда не пойдешь, Лимон… – объявил он. – Извини меня, я погорячился.
– Я ухожу, – сказал я равнодушно. – Сойди с дороги.
– Лимон… – Он тяжело дышал еще от напряжения. – Лимон, я же тебя люблю, дурак. Извини…
– Я вижу, – сказал я. – Дай мне пройти.
– Лимон, ты же мой брат… – Он попробовал обнять меня. От него пахнуло потом и духами «Экипаж».
– Неужели ты думаешь, что после того, что сейчас произошло, я стану с тобой поддерживать какие-либо отношения? – отвернувшись от него, спросил я.
От отступил от двери, я вошел в элевейтор и спустился вниз.
Вонял отвратительно гниющий мусор. Бродяга, таких я еще не видел, без церемоний, горстью зачерпывая из бака, жрал отбросы при свете красной лампы, горевшей над заплесневелой ржавой дверью, может быть, ведущей в рай. Я дошел до Вест-Бродвея, взял такси и поехал на свой Верхний Вест-Сайд. «Одним другом меньше», – думал я рассеянно. Странное дело, я не чувствовал ни боли, ни потери. Чуть позже я даже обнаружил в себе удовлетворение от разрыва очередной бессмысленной связи. Подъезжая к своей 93-й стрит и выходя из такси на Бродвее у турецкой овощной лавки «Низам», настежь открытой несмотря на 4.30 утра, я уже чувствовал только элегическую грусть.
Эксцессы
Влажный, бессмысленный и пустой Нью-Йорк в июле оказался далек от меня как никогда. В каждый мой приезд мы все более отдаляемся и скоро, может быть, возненавидим друг друга, как часто случается с бывшими страстно влюбленными. Я пересек Первую авеню и, не встретив ни одного прохожего, подошел к нужном дому. Достаточно ординарный снаружи, внутри он должен был скрывать, по словам моего друга Сашки Жигулина, «охуенный пентхауз». В «охуенном пентхаузе» остановился Жигулин, также как и я, приехавший из Парижа на побывку в эту баню. Я приехал по литературным делам и потому, что кончался мой американский документ для путешествий, зачем приехал Жигулин, я понятия не имел, может быть, от скуки. Он уже несколько лет мотается между двумя столицами.
Жигулин открыл мне дверь. Я вошел мимо дверей различных служб (в одном незакрытом проеме виднелась бело-голубая просторная ванная и ванные принадлежности) в обширнейшее светлое помещение, украшенное даже двумя колоннами. Слева у стены ввинчивалась вверх лестница, покрытая черным лаком, сияющая, как рояль. Спешу заметить, что за те несколько часов, которые я провел в «охуенном пентхаузе», я так и не поднялся по лакированной лестнице. От Жигулина я узнал, однако, что там помещается верхняя солнечная палуба корабля-пентхауза.
– Ну живешь! – уважительно прокомментировал я увиденное великолепие. – Ни хуя себя!
Сам я жил у приятеля на 101-й улице и Бродвее и спал на диване.
– А ты думал, Лимонов… – заулыбался Жигулин и потрогал мою рубашку, сделанную в виде звездно-полосатого ало-бело-синего американского флага. – Где купил?
– На Бродвее. Шесть пятьдесят.
– Клевая рубашка, – похвалил Жигулин. – Ты, конечно, знаешь маленького Эдварда? – спросил он и кивнул на толстенького небольшого человечка с широким ртом, улыбавшегося мне с дивана.
– Безусловно. Привет, Эдвард! – сказал я.
– Привет, Эдвард! – ответил мне маленький Эдвард и встал, чтобы, очевидно, подойти ко мне и, может быть, пожать руку.
«Нью-Йорк таймс», лежавшая у него на коленях, воскресная, толстая, упала и рассыпалась по ковру в беспорядке.
– Ну, Эдвард, еб твою мать! – свирепо закричал на него Жигулин. – Что ты, блядь, как свинья все разбрасываешь… Я тебя выгоню на хуй! Ты же знаешь, что мне нужно убирать этот ебаный апартмент, завтра приезжает эта пизда Шэрил…
«Этот», «эта», «эти» – любимые эпитеты Жигулина.
Маленький Эдвард вернулся к газете и, напрягая хаки-брюки на заднице, нагнулся и стал подбирать «Нью-Йорк таймс». Маленький Эдвард – француз и живет в Париже. Он прилетел вместе с Жигулиным. У маленького Эдварда богатые родители. Маленький Эдвард тянется к культуре, к фотографу Жигулину, к его моделям, к богеме… А буржуазный папа маленького Эдварда хочет со временем передать ему управление своими фабриками унитазов. Ну если не унитазов, чего-то вроде унитазов, может, постельного белья или горчицы. Маленький Эдвард усиленно сопротивляется воле богатого папы.