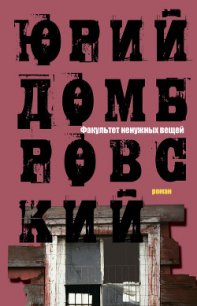Хранитель древностей - Домбровский Юрий Осипович (версия книг txt) 📗
– Ваня, ты поезжай домой, – сказал редактор. – А я пешком пойду.
Дверь снова щелкнула, молодой голос о чем-то спросил.
– Нет, – ответил редактор, – завтра заедешь часам к трем, я в редакцию не пойду.
Мы прошли еще несколько шагов, и тут редактор спросил меня:
– Вы слышали, что сегодня сказала Аюпова?
– Да, – ответил я.
Он поглядел на луну и глубоко вобрал в себя воздух.
– Ночь-то, ночь-то какая! – воскликнул он совершенно иным тоном, мягким и лирическим. – Вы знаете, я первый раз в этом году гуляю ночью. Как мы все-таки обкрадываем себя под конец жизни! От мяса отказываемся, в горы не ходим, по ночам не гуляем. А ведь последние годы…
Я молчал.
– Да, такая вот неприятность с этим Корниловым. И Аюпова права! При всем при том, а права!
– Это в чем же? – остановился я.
Он вздохнул.
– А в том она права, дорогой мой, – сказал он нравоучительно и печально и взял меня под руку, – что советская печать должна делаться чистыми руками. Понятно тебе? А всякого рода чуждый элемент – обиженные, репрессированные, приспособившиеся, классово чуждые – эти и близко не должны к ней допускаться. А мы вот часто допускаем. Иногда от гнилого либерализма, иногда от лени – самим-то ведь писать не хочется! А чаще вот так, как сегодня – от идиотской болезни благодушия. И получается: указал человек на конкретный недостаток, обличил кого-то, а обличенный приходит и говорит: «Я протестую! Вы в своей газете предоставили трибуну классовому врагу». И ничего не попишешь, приходится признаваться – действительно предоставили трибуну.
– Это Корнилов-то враг! – воскликнул я.
Редактор посмотрел на меня и засмеялся.
– Что, не враг? – спросил он добродушно и ответил; – Может быть, может быть, и даже наверно совсем не враг, но вот знаем-то это вы да я, а тот, к кому Аюпова побежит жаловаться, он нас с вами не спросит. Он как будет смотреть? Репрессирован? Да, репрессирован. За что репрессирован? За антисоветскую деятельность. Судимость еще не снята, а он каким-то боком сотрудничает в газете. Ну что ж, очень плохо, что ему дали такую возможность. И тот, кто допустил ее, тот потерял бдительность. Вот и весь разговор со мной. Понимаете?
Я молчал.
– И весь разговор, – повторил он настойчиво. – Потому что, когда скажут так, тебе отвечать нечего. А потом объясняйся ходи. И хорошо, хорошо, если когда все объяснишь, и все докажешь, и все бумажки принесешь, тебе тот же товарищ скажет вдруг по-простому, по-человеческому: «И надо было тебе связываться с ним, доставлять и себе и нам такие неприятности? Неужели у тебя не нашлось в редакции никого, кто мог бы написать эту же самую статейку, но только без всяких историй? За что ты тогда людям жалование платишь?» И ведь нечего ответить: он прав.
– Это так, конечно, – уныло согласился я, – если смотреть так, то…
Он взглянул на меня, безнадежно покачал головой и вздохнул. Опять мы шли по улице, залитой луной, мимо тополей, голубых и серых от лунного света. Кое-где в них горело еще одно красное или зеленое окно, – мимо заборов и будок, садов и площадей, мимо всего уснувшего города.
– И парня, конечно, жалко, – сказал редактор. – Это так! Он бегал, старался, хотел оказать нам услугу – и вот, пожалуйста, получил. Вы что ж думаете, я не понимаю этого?
Я молчал.
Он искоса посмотрел на меня, потом быстро наклонился, поднял с дороги какой-то камешек и, коротко размахнувшись, бросил его в темноту.
– И главное ведь, – заговорил он, помолчав, – из самых низких шкурных чувств поднят весь этот хай, чтоб никто и думать не смел тронуть Аюпову! Она чтоб всех, а ее – ни-ни-ни! Что мое – то свято. Не суйся, а то голову отшибу, вот как Корнилову. До сих по без работы шляется, нигде не принимают! Вот ведь что она хочет. А ведь тоже говорит: «Я люблю самокритику».
Я засмеялся.
– Это она вам так сказала?
Он тоже засмеялся.
– Она. С этого и начался разговор. «Я люблю самокритику, я сама критикую других и прошу, чтобы меня тоже критиковали самым беспощадным образом. Без критики, я считаю, нет движения вперед». Это она считает! Ну, а потом: зачем мы поместили эту статью? Зачем упрекаем в том-то, том-то, зачем с ней не согласовали, зачем разрешили клеймить?
Мы прошли еще до конца аллеи, и тут редактор вдруг взял меня за локоть и повернул тихонько назад.
– Пойдем! Пора! Жена теперь уже все телефоны оборвала. Понять не может, куда я делся. Ведь я со службы всегда сразу домой. – Он помолчал, подумал. – Аюпова мне сказала, что Корнилов хочет поступить к вам в музей – это правда?
Я пожал плечами.
– Теперь его не возьмут. Ведь она всюду бегает и жалуется.
– А директор трус? – спросил редактор, что-то обдумывая.
– Нет, директор как раз храбрый человек, но…
– Так я завтра позвоню ему, – решил редактор. – Пусть берет, не боится.
Я поговорю где нужно, объясню все. Самое-то главное: статья правильная! Молодец Корнилов, интересный материал дал, стоящий. Это нужно учесть. И мне уже звонили из ЦК, говорили: побольше бы таких статей.
– Сделанных вражескими руками? – спросил я.
Он засмеялся и махнул рукой.
– Ладно! До свидания. Вот наконец я и дошел. Четыре раза прохожу я сегодня мимо. Никогда у меня еще этого не было.
Он пошел и вдруг остановился.
– Слушай, – сказал он серьезно, – ты на Аюпову тоже очень не обижайся. У нее неделю тому назад забрали мужа.
Меня разбудил дед-столяр. Он стоял надо мной и кашлял. Я поднял голову.
– Все спишь, – просипел дед, в груди у него сразу запели две дудки. – Вот задышка замучила, и махорку теперь не курю, а все давит. А ну, вставай, говорю. Там у тебя массовичка всю твою империю разгромила, все твои образы на полу.
– Какие образы? – спросил я, еще не совсем проснувшись.
– Пойди – увидишь. – И он сердито положил на край кровати фотографию Кастанье – уникальный экземпляр, отысканный мной в старых архивных папках музея.
– Где ты это взял? – спросил я, и сон с меня как рукой сняло.
– Да говорю: иди, они все там валяются. Я вскочил и стал одеваться. Дед стоял надо мной, кашлял и рассказывал:
– Позвала меня и говорит: «Принесите лестницу, будем снимать фотографии». Ну, я, конечно, принес, а она привела меня к твоим щитам и приказывает: «Вот я буду показывать, а вы снимайте». Когда дошло вот до этого твоего, я ее спрашиваю: «А хранитель, говорю, знает?» А она: «Не знает – так узнает. Это приказ свыше, снимайте, не бойтесь». Ну, раз не бойтесь, то я и ободрал у тебя все начисто.
С портретом Кастанье в руке я влетел в музей и увидел: массовичка уже покончила с «Дружбой народов» и, подбоченившись, командовала разрушением «Культуры и искусства Казахстана». Около нее на полу лежала целая груда рам и плакатов. К ободранной стене была прислонена трясучая, заляпанная цементом лестница, и на верхней перекладине ее плясал наш электрик Петька – горластый парень лет двадцати. Приподнявшись на цыпочки, он тянулся к огромной фотографии: «Чапаев со своим штабом». Две женщины – фотограф и заведующая отделом хранения Клара – поддерживали эту лестницу с обеих сторон и боязливо глядели на Петьку.
– Зоя Михайловна, что ж вы делаете! – крикнул я.
Массовичка посмотрела на меня и улыбнулась. Была она толстая, с одутловатым лицом, вытянутым настолько, что мне все время хотелось зажать его в ладонь, как клизму, да и подавить. Глаза у массовички были узенькие, свинушьи, с желтыми прожилками.
– Здравствуйте, – сказала она мне строго. – А мы вас уже искали! Вот, – она кивнула на стены, – чистим экспозицию, директор приказал заменить устаревшие экспонаты. У вас мы уже все закончили.
– Так что ж, это вы по приказу директора сняли – Кастанье? – спросил я.
– Разумеется! – воскликнула массовичка. – Да вы же и сами понимаете, конечно, что этому экспонату не место в музее.
– Это почему же «конечно»? – спросил я свирепо.
Она хитро и мудро прищурилась. Она политически прищурилась, так сказать.