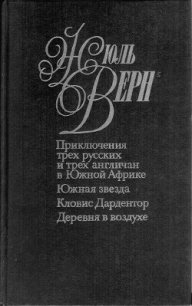Южная Мангазея - Янев Киор (книги серии онлайн .txt, .fb2) 📗
Утром в гостинице троллейбусная незнакомка хотела лишь навестить подругу, которой в "Орлёнке" не оказалось. После джинтоника в подводном баре они поднялись в кафе на верхнем этаже, где Ян испил амброзии из затянувшегося жаркого рассвета. Он обозревал спекшиеся звёзды Кремля, когда она заметила, что забыла внизу сумочку.
Закрыв прозрачные двери кафе, он попал в обитый замшей лестничный пролёт, как в гадальный стакан, будто деревянный козлик с оборванной крепёжной леской, распадаясь на непоправимые слова, обращённые к далёкой Кларе Айгуль, пока пятно, оставшееся в его глазах, только что смотревших на незнакомое солнце, стремительно впитав в себя багровый окрас мира, не прошило его, наконец, как трассирующая звезда. Новая знакомая не стала ждать сумочки, спустилась сразу за ним, успела подхватить дергунчика под руку и вышла с ним на улицу. В чешуйчатых взглядах идущей вверх осенней аллеи Эвридика тонула, теряя блики и чёткие линии, подобно водяной лупе, наводившей лимонадную истому в зыбких глазах карпов-доминошников, где долго меркнет, как в искромётном кинескопе, плавкая звезда выключенного Лебединого озера.
И на чахлой скамейке у шоссе, шумевшего словно пищеварение у червя, это не её поцелуи влетали в его голову, но какие-то летучие мыши, шелушившие его воспоминания как майских жуков, похожих на золотые запонки.
Вот так и проводил Эвридику до недалёкого, через Воробьёвы горы, университетского коллектора для новоприбывших, откуда иностранцев распределяли по предназначенным вузам. У входа стояли гбешные церберы. Однако здание было знакомым Яну типовым московским общежитием, чтобы попасть в которое минуя контролёров, нужно было залезть на какой-нибудь из верхних этажей через боковой зигзаг шедшей от этажа к этаж пожарной лестницы. Он заметил, что никогда, даже карабкаясь над ним по этой лестнице, и позже, его новая возлюбленная не поворачивалась к нему спиной, и он думал, что если она навка и у неё нет обычной женской спины, то необычен и её обмен веществ, который он почти чувствовал, будто её жилки, как тетива, посылали и принимали некие жала из мира позади неё, и что, проникая в неё слишком глубоко, будет ужален и он.
Прояснело. Ян лежал с болью (а!) в затылке под испачканной простынёй в своей новой комнате, которую, минуя Банный переулок, сестра Нота, мечтавшая его сплавить, сняла у знакомой пожилой медсестры. Та работала в анатомичке и, копя на холодильник "Зил", приносила домой сумки с сухим льдом. Во второй комнате двушки вверху многоэтажки на Кленовом бульваре жила Пипа, медсестрина дочь безответственной красоты. Вокруг Яна, по стенам и потолку, маскировочным ползком перемещались светлые блики. Молочный язык белого света свесился под кровать от подоконника из ящика-ледника. Там Ян с вечера оставил в кружке молоко из потребляемой студентами смеси «Малыш». Но вот оно, цело, лыбилось за круглым ободком, однако ужалило его в губу ледяными иголками, обнаружив за тонкой кожицей анатомически промороженное за ночь подобие тех сосудиков и железок, которые скромно, двумя пальчиками с крашеными ногтями отцеживала рекламная молодуха в рыхлого «Малыша».
Блики же были от серого облачного лица, глядевшегося в тёмное оконное стекло, как в дырявое зеркало. Медленные блики от уличных машин, как искристые мушки, пролетали мимо его облезлой пудры и осторожно дразнили неизвестную комнату, слегка просовывая сквозь стекло световые, разноцветные хоботки. Серое лицо за окном, вздрогнув вихорьком, открыло солнечный глаз. Он тут же облепился, подёрнулся искринками, столкнувшими его с места и, солнечным зайчиком, с лучиком вместо хвоста, поскакал с мушки на мушку. Те загорались и думали, краснея, что это ангельское сердечко обожгло их короткую жизнь. Тут же спешили столкнуться друг с другом, чтобы обменяться искорками и хранить их, как мерцающие сердца, всю жизнь. А солнечный зайчик, очутившись на особенно разлапистом, медлительном, похожем на фосфоресцирующую медузу, блике, присел — сложил уши вместе и ракетой прыгнул в дирову комнату, пробив оконное стекло. Попал прямо в молочную кружку, выскочил обратно, потеряв солнечную окраску и приобретя обычную заячью, и забился куда-то под диван. Лучик же остался, свечным огоньком дрожа в середине молочной округлости. От волнения по ней пошли круги, поднимаясь над краями, а в центре вздувая рябую юбочку у лучика, отчего тот раскраснелся, натужился и вырвался, чуть потянув розовую плёнку! Она опала морщинистым холмиком на белую с золотистыми крапинками кожицу, которая подрагивала, выступая из агатового ободка одноимённым каноническим реквизитом. «Святочный ширпотреб!» — надеясь на диптих, Ян снял свою голову и любезно её лобызах. Луч же, лишившись опоры, совсем расплылся в молочно-ночных испарениях. Откуда внял хмельную эфемериду. И так плотно и тепло объял Яна, что тот зажмурился, понежился и обомлел, увидев сквозь прищур испуганно суженные зрачки. Оказалось, что это он обнимал какую-то девушку, дрожавшую у разбитого окна, сидя на подоконнике рядом с опрокинутой кружкой. По ногам её отекали молочные капли и золотистые мурашки. Она куталась в сорванную занавеску, прижимая руки к груди. Ян отпрянул. Тут девушка улыбнулась, сама протянула к нему руку. Слава Богу. Отнюдь не св. Агата была в почти невыносимой занавеске, кровоточащей, впрочем, одним, похожим на тёмный фитилёк, пятнышком.
— Эвридика. Странница.
— Холодно снаружи?
— Чем дальше от земли. — Эвридика рассмеялась, опустила слипшиеся ресницы, допила молоко из кружки и спрыгнула с подоконника на световую дорожку. Ему показалось, что она не пронзила её насквозь, что было удивительно, так как в его объятиях девушка была неплохо сбитой. Однако, вспомнив, что недавно глотал амброзию, чтобы смыть низменную тяжесть, сам прыгнул в свет, но прозаически заскрипел половицами. Она же, смеясь и пружиня то ли на половицах, то ли на молочном языке с тысячью мелких жалок, попрыгала в такт сердцу хозяина комнаты! Раскачала Яна, взбаламутив, как бутылку шампанского, сказала «Пока!», топая, разбежалась и, с упором о подоконник, вымахнула наружу с занавеской и сердцем Яна, которое хлопнуло бутылочной пробкой, стукнулось о форточку и сразу растерялось, подталкиваемое холодными шлепками бликов всё выше и выше, за кромку белой суетливой мути и резь зари в чёрную, аукающую грозовым стуком, невесомость, почувствовало там тяжесть и ухнуло обратно, придавив начавшее вздыматься к потолку тело к диванной подушке и густо загнав кровь в веки и прочие покровы, ставшие свинцовым саркофагом, где Ян пролежал века, за которые стены его склепа превратились в перенасыщенный раствор из умерших звуков, запахов и испарений давно, забытых событий, так что чуть свистнул за окном воробей-разбойник и… — лопнул последний шлюзик в стенном капилляре, вся мёртвая масса тяжёлым кошмаром сверзилась на стылую кровь залежалого Ильи-Муромца, заставив его дрогнуть членами.
Когда Ян, наконец, продрал кружево паутины на глазах, стало пасмурнее. В оконную раму была засунута заслонка из фанеры. Ободранные обои частично заменил паутинный драп. В зеркале, вытряхивая слюду своих бескровных, остекленевших предшественников, пучилось отражение. Набрякшая поверхность едва держалась и слоями отскакивала при каждом движении новичка, плющившего одинокую рожу. Канул в кажимость? Ян злорадно повернулся, оставляя бессильного позёра распластываться и, истекая соками, стекленеть ещё одним слюдяным слоем, сделал пару шагов и пнул в дверь, как в днище Харона. Вокруг аммиачной, мёртвой лифтовой шахты лестничный пролёт с прибившимися номерными расщепами, разбухшими от кошачьих эмоций. Становилось возможным бездумно скользить по утерявшей пульс улице. Она напоминала изношенную простыню, под которой уже завелись черви, перенявшие инстинкты верхних пользователей. Их похотливые изгибы местами выпрастывали наружу выворотни земли, клубы чёрных подземных испарений, столь плотных, что черви, казалось, могли удержаться в них над землёй. Змеи-горынычи особенно клубились и пыхтели вокруг неосторожно приподнявшегося, растерянного солнца, хватали его за ломающиеся лучики, тащили всё ниже и ниже, в грязь. Солнце порывалось подняться, бежать, неуклюже отпихивалось, уставая и слабея на глазах. Бесполезно было звать на помощь. Ян стучал во все подъезды, сдирал с них мох заплесневелой памяти и, словно пропитавшись пенициллином для борьбы с пакостью, в приливе сил побежал на закат, чувствуя под ногами как громоздившиеся на дороге, истончённые, почти неощутимые прежде остовы страданий юного Яна наливались возвращённой памятью, плотнели и возносились грудой, вскарабкавшись на которую он увидел, как далеко и покойно солнце от всех химер его страха. Оно подмигнуло Яну, подёрнув голубоватым дымчатым веком, и приветливо взмахнуло перистой золотистой прядкой, что лестницей Иакова спустила его на грешную землю, в "Букинист" на Театральном проезде. Этот букинист был удобен тем, что можно было свободно копаться на его полках.