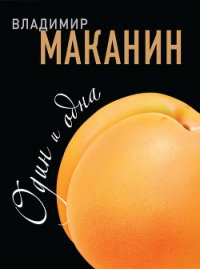Андеграунд, или Герой нашего времени - Маканин Владимир Семенович (читать книги онлайн полностью txt) 📗
В углу собирали альманах.
— ... Мужики! — зазывал голос составителя. — Ну давай, мужики! Новелла, но чтоб без мата. У кого есть новелла на пол-листа, но без мата?.. Срочно, мужики.
Ему шутливо отвечали — есть, есть без мата. Но с двумя гомосеками.
Голос взвился:
— Вы что, с ума посходили! — Составителя в углу я не видел, но боль его хорошо слышал. Беднягу аж трясло. (Затеянное могло сорваться!) Исторический, можно сказать, для литературы час, цензуры нет, свобода, но ведь речь о юношеском сборнике, какие гомосеки! с ума посходили!..
Место их сбора мне подсказал еще Михаил, адрес, угловой дом НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, но я никак не предполагал, что попаду на склад, в царство облицовочной плитки. Плитка меж тем валялась прямо на полу. Когда-то ее достать было невозможно, о ней мечтали, ее разыскивали, теперь будущий глянец наших сортиров и ванных комнат валялся вразброс бесхозный, неохраняемый, и на нем, на штабелях, восседали там и тут полубезумные старые графоманы. Писаки. Гении. Старики, понабежавшие сюда за последним счастьем. Моя молодость; что там молодость, вся моя жизнь — я их узнавал! Я их признавал приглядевшись, хотя по свежему взгляду эти лысины (и эти морщины), эти висячие животы (и спившиеся рожи) возмутили и оскорбили меня — унизили, напомнив, что с нами делает время. С ума сойти! Старики уже не надеялись, но они все еще хотели. Жить им (нам) осталось уже только-только. И желаний было только-только. Но первое из первых желаний было по-прежнему высокое — напечататься. Оставить след. Опубликоваться, а после уже и туда можно. Облиться напоследок мелкой советской слезой. Общага, мол, признала.
Один старик выкрикивал другому в самое ухо.
— ... Так уже не пишет никто. Пойми: мои тексты — сакральны! сакральны! сакральны! — страдальчески каркал старый ворон, рвал душу.
Но птицы и птички, изображенные на облицовочных плитках, криками на крик не отвечали. Ванные комнаты будут как перелет молчаливых. (Шуметь будет душ.) Гуси и журавли на плитках, крыло к крылу, с оттянутыми назад лапками — в тоталитарно-боевом строю летели не в осень, а в вечность.
Узнал. Из стариковских морщин (как из зарослей) выглянул знакомый мне человек, автор «ночных» непубликуемых романов Василий Зарубкин, а когда-то просто андеграундный Вася; боже, как сожрало его время. Нос сиз и руки в алкашной тряске (ловят, ловят улетающую с плиток осеннюю птичку!).
— ... Эта сука опубликовал уже две повести. Пусть бы даже за свой счет!
— А у тебя есть деньги? — посмеиваются над ним.
— У меня будет спонсор, — твердо выговаривает старик Вася новенькое словцо, глаза загорелись.
Я тоже было присел на плитку (холодноватая). Вокруг громко обсуждались будущие издания, сборник, альманах, и где найти дешевую бумагу для тульской или калужской типографии. Я в разговор не вступаю. (Все это ново, чудну для меня.) Курю. Мысль ушла в никуда, вяжет там некие кружева. Я ее отпустил. Пусть там.
А сердце давит. Нет Викыча. Нет Михаила. Вот и последние русские литераторы, разрозненные, одинокие, — по каким только улицам они не шляются, чем только не подрабатывают! С пустотой в карманах. С литературой в крови. Нелепые старики. Солдаты. А вот ведь пришли! И папки свои незабвенные принесли!.. Старушки со стихами перестали ходить по редакциям уже много раньше. (Умницы. Как только попадали передние зубы.) Еще одного, шастает взад-вперед, я вдруг отличаю — узнаю по его щекам с характерным нарезом старых морщин, когда-то он был Толя Подкидыш, прозвище, огрызок фамилии, блондинчик, он, он! — с подавленными страстями, но с так и не уснувшим честолюбием.
Он тоже узнал. Сипит. Сипит мне в лицо, не здороваясь, а просто сунув навстречу костлявую руку — так мы общаемся меж собой десять (или сколько там) лет спустя:
— Говорят, ты нашел издателя?
Негромко смеюсь. Да, я нашел — но не издателя. А что?.. Не могу сказать что, но что-то в своей жизни нашел.
— Деньжат в таком случае не одолжишь ли? (Юмор?)
— Не одолжу, — говорю. И швыряю окурок в тихо дымящееся (от окурков) ведро на полу.
У стариков-литераторов, кто с прискоком и с одышкой, так или иначе, а все же впрыгнул в новые времена (в трамвай) — у них не столь шизоидный вид. Меня, вот ведь счастье, принимают как раз за такого. Мой спокойный равнинный шаг кажется им предвестником того, что у меня на мази и что вот-вот где-то бабахнет мой роман, залежавшийся с брежневской эры.
— Подойди к Антон Степанычу. Скажи ему что-то.
— Что сказать? — спрашиваю я.
— Как что? Поговори. Ну хоть подбодри!..
Показывают мне совсем уж одряхлевшего старого пса, жующего бутерброды, обнюхал, прицелился — и шасть в пасть! — нет, не пойду. Только сердце тяготить. Зачем его подбадривать? Пусть жует. (Я даже и припомнить дедка не в силах. А еще окажется, что он младше меня!)
С улицы скрипнули тормоза. Машина. К издательству, у дверей которого агонизировали остатки пишущего поколения, подъехал ныне известный Зыков. Я еще от Михаила знал (вместе продумывали мой поход сюда), что Зыков и есть один из редакционного совета, куда не звонить и в дверь не стучать, а также один из основателей издательства, вложил, кажется, большие деньги; точно не помню; слухи.
Ах, как несколько человек, узнавших его, метнулись справа и слева. Обступили. «Не обещаю. Не обещаю. Будем строги в отборе рукописей», — отвечал он им на ходу.
— Будем строги... Не обещаю... — Но вопреки словам, лицо писателя Зыкова было вполне доброе, покладистое. Лицо их старинного друга. Зыков честен. Зыков расстарается, это ясно, и вся эта орава полусумасшедших стариков обретет тексты, впервые в жизни набранные типографским способом. Сто авторов. Так сулили в рекламе. Книга, разумеется, будет толста, бумажный кирпич. Книга будет набрана мелким-мелким шрифтом. Будет издана и тут же забыта, не продающаяся и рыхлая, с разлетающимися страницами, распадающаяся, сыпкая, как пересохшая глина. Как холмик. Как в оградке горбик земли — братская могила писакам, трудно дожившим до времени Горби. (И все равно счастье. Что там говорить! Как сияли их лица!..)
Зыков увидел меня. В глазах мелькнуло. Он счел, что я разыгрываю гордеца (а я и разыгрывал), сам подошел ко мне дружеским шагом. Пожал руку. Взял рукопись (все старички отдадут свои замшелые папки секретарю, а вот у меня взял лично) — глянул:
— Стал новеллки писать? От руки?
Но разглядел на листке фамилию и, чуткий, не стал дальше расспрашивать. (Прослышал ли, что Вик Викыч погиб? или еще нет? — чуткий, добрый, а лицо непроницаемо.) Просто кивнул. Сказал-спросил, надо бы нам при встрече выпить, как считаешь?
И улыбнулся:
— Нам теперь при встречах нельзя не пить.
Рядом тотчас протиснулся сизоносый Толя Подкидыш. Сизоносый, седой и — теперь заметно — с шрамом на лбу. Бубнит. (Расслышал уже издали выпить... встреча...) Заглядывает в глаза. Попрошайный рефлекс. «А кто же не хочет выпить со знаменитостью!» — то есть с Зыковым, то есть уже сильно, шершаво его лизал.
Но у Толи Подкидыша рукопись Зыков не взял.
Еще более нас различая (и тем розня), Зыков приобнял меня за плечо и повел из склада в сторону издательских дверей. Оттуда, из утробной глубины комнат слышался завораживающий стрекот то ли ксерокса, то ли небольшой типографской машины. Било в нос краской. Уже тут я почувствовал (с ним рядом), что Зыков меня слегка обласкивает (осторожно, конечно, с дистанцией, но обласкивал), а пусть, подумал я, посмотрим, чего человеку надо.
Злые языки говорили, что мы c Зыковым как прозаики стоим друг друга и что вся разница наших судеб в случайности признания и непризнания. В том, что однажды после совместной пьянки я опохмелился, а он нет. Случились вдруг западные корреспонденты (тогда еще, при цензуре, бегали за нами), они-то из нас двоих и выбрали для фото Зыкова, как более изможденного. То есть сфотографировали обоих, но меня, только-только опохмелившегося и благодушного, в газетах отвергли. (Зачем-де им счастливчики брежневской поры?)