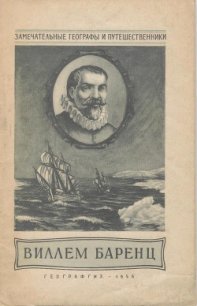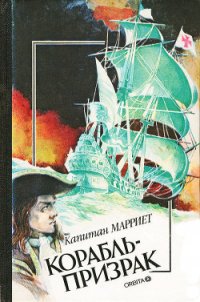Больше никогда не спать - Херманс Виллем Фредерик (книга жизни txt) 📗
— Вы тоже едете в Тромсё? — спрашиваю я.
— Ты голландец?
— А что, разве непохоже?
— По делам, конечно.
— Да нет. Мне нужно потом ещё дальше на север, у меня там родственники.
Я говорю это прежде, чем успеваю что-нибудь подумать; врать мне ничуть не приятнее, чем объяснять ему, что же я на самом деле собираюсь делать на Севере.
— Вы в плавание? — поспешно задаю я вопрос.
— Да, должен заменить в Тромсё одного кока, который сбежал с корабля. Терпеть не могу сидеть в самолёте. Но пароходство, оно этим не интересуется.
Он снова переворачивает книжку, текстом вверх.
— Трудный язык этот английский. Ты понимаешь, что здесь написано?
Он указывает мне на предложение, которое звучит так: «Does Alfred go to the races? No, he doesn't».
— Почему они это так написали, — спрашивает он, — что он там делает?
— Это просто такая манера говорить, — пробую я объяснить. — Если англичане хотят о чем-нибудь спросить, они говорят не: «Ходит ли Альфред на скачки?», а: «Делает ли Альфред ходить на скачки?».
— Но это же просто ерунда какая-то!
— Ничего не поделаешь, такой язык. Понимаете, когда англичане задают вопрос, они сначала спрашивают о том, делаете ли вы что-нибудь, а потом уточняют, что именно, в инфинитиве.
«В инфинитиве»! Я сразу же закусываю губу. Неужели я даже самых простых вещей не могу объяснить без того, чтобы показаться педантом?
— Ну да, всё ясно, — говорит он. — Ты в этом разбираешься. Эксперт.
— Do you smoke, — продолжаю я (в конце концов, он сам напросился), — do you smoke, делаешь ли ты курить, но они подразумевают, куришь ли ты.
— А вот и неправильно, — отвечает он. — Они говорят: «Have a smoke».
Одновременно он достаёт пачку North State и держит её у меня перед носом. Я беру сигарету и закуриваю.
— North State, — поясняет он. — Здесь в Норвегии это называется South State.
— Правда?
— You do smoke, I not smoke. I жую табак.
Я улыбаюсь.
— Жевать табак, — спрашивает он, — как это будет по-английски?
Всё-то я знаю, только аэрофотоснимков у меня нет.
— To chew tobacco, — отвечаю я.
— Ту чу то-бэ-ко, — повторяет он, — сделай доброе дело, запиши мне это где-нибудь.
Сначала по-английски, потом в фонетической транскрипции, я записываю.
— Сразу видно, что ты много чему учился, — говорит моряк. — Если бы я знал хотя бы половину того, что ты, то я бы сейчас не сидел тут по приказу пароходства. Тогда бы я уж как-нибудь устроился так, чтобы меня не гоняли чёрт знает куда. Жил бы, где хочу. Мне эти мысли иногда спать не дают, честное слово. Если бы только в своё время у меня была возможность учиться…
Он опять смотрит в свою книжку. Листает. Постоянно задаёт вопросы. Жажда знаний.
Всё, что я ему отвечаю, я знаю так давно, что уже много лет это не приносило мне никакой радости. Но снимков у меня нет, и теперь за ними уже больше некуда обращаться.
Моряк всё больше и больше восхищается моими познаниями. Моя подавленность потихоньку улетучивается. В первый раз в жизни владение английским языком переполняет меня гордостью.
Он успокаивается только вручив мне в подарок все свои сигареты. Но когда стюардесса объявляет в микрофон, что мы идём на посадку, я вдруг вспоминаю, что забыл купить в Тронхейме рулетку.
11
По дороге на север, точно так же, как оскудевает растительность, деревья растут реже и сами они меньше, так и городские дома становятся всё ниже, и посёлки всё более разбросаны. Закон такой? Может быть, а может, и нет. Мне-то не всё ли равно?
Я поеду дальше только завтра, и, кроме как открывать для себя подобные истины, делать мне пока больше нечего.
Наступление вечера в Тромсё почти незаметно. Здесь в это время года вообще никогда не темнеет. Царство незаходящего солнца: подходящая фраза для надписи на открытке, которую надо бы послать матери.
Я иду по улице между деревянных домов, покрашенных в голубой цвет. Светит солнце, не выходной и не праздник, и всё-таки никто не работает, потому что время — половина одиннадцатого. Народ слоняется по улицам, спать ещё явно никто не хочет. Парни выглядят точь-в-точь как в голландских провинциальных городках и вертятся вокруг такого же типа девиц, причёсывающихся прямо на ходу. Только мороженое они едят из огромных рожков, гораздо больших, чем у нас. Машин почти нет. Почти нереальный звуковой фон, в котором преобладают шаги.
Сувенирный магазин, где продают оленьи кожи, традиционную одежду лопарей, оленьи рога, покрывала, похожие на лодки сани, открытки с изображениями лопарских семей, медвежьи шкуры. У входа на улице — чучело белого медведя. Все прохожие подходят его погладить, я тоже. Отец сажает на него маленького сына и фотографирует.
Скобяная лавка закрыта. Надо бы не забыть, где она находится. Завтра утром зайти и купить рулетку. Запомнить расположение лавки нетрудно — это на площади, выходящей прямо к морю.
Посреди площади стоит большой бронзовый памятник: полярник на прямоугольном пьедестале. Сначала я вижу его со спины. Кто это? Я обхожу памятник и читаю надпись на пьедестале:
«Руаль Амундсен»
Лицом к фьорду, покоритель Южного полюса стоит над водой и вглядывается в чёрные горы на противоположной стороне, на которых до сих пор заметны белые полоски снега. Он стоит, широко расставив ноги, как будто сопротивляясь шторму, но при этом с непокрытой головой. Капюшон образует широкие складки вокруг его шеи. Анорак длинный, как ночная рубашка, штаны — как большие трубы вокруг сапог.
У него высокий лоб, волосы на угловатом черепе коротко острижены. Большие важные усы. Трудно себе представить, что в своё время на них висели толстые сосульки, отчего первопроходец, должно быть, выглядел менее представительно. Впрочем, почему бы и нет.
В памяти всплывают всевозможные отрывки из книжек о великих путешественниках, которые я читал в детстве. Амундсен выжил благодаря тому, что ел своих собак. Собаки, в свою очередь, ели друг друга. Шекльтон ел пони, у него вместо собак были пони. Это создавало непреодолимые трудности с провиантом, тем непреодолимее, чем больше пони он брал с собой.
А ещё был Скотт.
Скотт. С огромным трудом приближается он к Южному полюсу, в промёрзшей одежде, с отмороженными пальцами, но сердце безумно стучит в груди, потому что вот-вот он взойдёт на землю, куда ещё не ступала нога человека… На землю? Скорее, на снег. Но взойти на снег, на который ещё не ступала нога человека — это может сделать каждый, зимой, у себя на крыльце.
Что тогда?
Устремиться взглядом ввысь, в зенит, посмотреть на небо так, как ещё не смотрел человеческий глаз. Но что там можно увидеть? Никаких звёзд, в январе там полярный день.
Что же, в конце концов, увидел на Южном полюсе Скотт? Норвежский флаг на торчащей из снега лыжной палке. И записку: «Привет от Амундсена и good luck to you, sir».
Теперь Скотт мог возвращаться домой. Его товарищи один за другим погибли. Сам он замёрз до смерти в палатке, в своём охотничьем белье, мокром насквозь уже несколько месяцев. У него не было рубахи из вывернутых наизнанку шкур, как у Амундсена. До последнего вздоха он продолжал вести дневник. Потом дневник нашли и опубликовали в специальном выпуске журнала «Земля и её народы», который я читал в четырнадцать лет.
«Боже, будь милостив к нашим несчастным жёнам и детям».
Скотт писал это, уже полумёртвый. Интересно, догадывался ли он, что всё это когда-нибудь попадёт в «Землю и её народы»? Скорее всего. Хотя, может быть, и нет, может, он всегда так писал. Мало кто записывает в точности то, что думает. Например: «Мои промёрзлые кальсоны омерзительно воняют». Или: «При минус пятидесяти струя мочи застывает в снегу, как палка из жёлтого стекла».
Такого полярники не пишут. Потому что высоко несут знамёна. Даже если не первыми установили их на Южном полюсе.
Бедный Скотт. Как пригодились бы ему аэрофотоснимки. Но в 1911 году их ещё не делали. Теперь делают, но далеко не каждому удаётся их раздобыть.