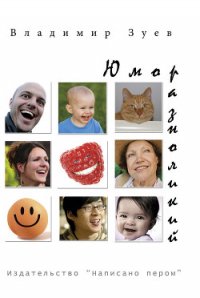Тропинка в небо (Повесть) - Зуев Владимир Матвеевич (книги хорошего качества TXT) 📗
— Мне дадут поесть?
Мигаль учился в четвертом взводе, поэтому уже знал ее.
— На довольствии сегодня ты не состоишь. Ну, становись в строй, подождешь там, в столовой, — может, и останется что-нибудь на твою долю.
И она встала в строй. Ей и в голову не пришло, что это унизительно — ждать, пока все пообедают и ей дадут какие-то остатки. Еще с войны к еде у Манюшки сохранилось отношение наипримитивнейшее, как у собаки: дают — бери, бьют — беги. А тут и подавно глупо было бы фыркать: не в гостях же она.
Рота разместилась по четыре человека за каждым столом и споро заработала алюминиевыми ложками. Манюшка стояла у двери, с любопытством оглядывая большой зал, уставленный столами вдоль стен, и своих сослуживцев (ей нравилось мысленно подчеркивать: моя рота, мои сослуживцы), внимчиво поглощающих еду. Она отметила, что обед не очень-то обилен: борщ, картошка, компот, и, главное, порцийки не для молодого аппетита — могли бы быть и побольше.
К ней подошел Захаров.
— А ты чего тут стенку подпираешь?
— Да вот… Не стою пока на довольствии. Старшина сказал: если останется…
— Эх ты, наивняк! Да будет тебе ведомо — у нас не остается. Идем.
Он привел ее к столу у дальнего окна и усадил на свое место.
— Рубай.
— А ты?
— А я за ложкой. Но ты не жди.
Соседи за столом доедали свой обед. На Манюшку они не поднимали глаз, точно чего-то стыдились.
Она в момент выхлебала половину борща, ополовинила картошку, отхлебнула компота. Захаров все не шел.
— Ты доедай, — сказал сосед слева. — Толик этого и ждет. На двоих тут делить нечего.
— Не, я так не могу.
— Эх, интеллигенция вшивая, — крякнул Мотко, сосед справа, и ушел из-за стола.
Через некоторое время он появился с подносом, на котором парился полный обед. Сзади плелся Толик.
— Зря ты, Марий, — сказал он тихо Манюшке. — У нас тут, брат, законы суровые. Будешь жеманиться и разводить всякую антимонию — опухнешь с голоду или от мордобоя. Тут надо…
— Садись, рубай! — оборвал его Мотко, выставивший уже посуду на стол.
— Какой благородный жест! — воскликнул Захаров. — Оторвать от сердца вторую порцию! Это же…
— За меня не страдай, я не из тех, кто может опухнуть с голодухи. — Сделав иронический полупоклон, он спортивной пружинящей походкой удалился в сторону кухни.
«Красиво ходит», — отметила Манюшка, снова берясь за ложку.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Распорядок. Спецы и ратники. «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе…»
Заморозков еще не было, но по утрам асфальт тротуаров и цементная дорожка перед школой так настывали, что в Манюшкиной обувке на них невозможно было стоять.
Манюшка приехала в Днепровск в старых брезентовых тапочках, и сейчас они, не выдержав частых маршировок и пробежек на занятиях по военному делу и физкультуре, расползались по швам и не по швам. Почти каждый день Манюшка чинила их, накладывая заплатки, но к вечеру из них снова предательски выглядывали наружу пальцы.
Проклятая обувка была на ней как позорное пятно. Манюшка не страдала чувствительностью, презирала всякую «мерихлюндию», но когда кто-нибудь бросал взгляд на ее брезентовые развалины, ей становилось неловко даже перед своим братом-спецшкольником, не говоря уж о штатских знакомых. Ух, эти поганые тапочки! Если бы не они… Ведь все остальное ее не только не дискредитировало, но, можно сказать, украшало. Гимнастерку и брюки бэу (бывшие в употреблении), что выдали ей временно, она выстирала и подогнала на себя, и они сидели на ней, как на молодом щеголеватом адъютанте. Пилотка ей шла, а уж когда она надевала фуражку с блестящим крапом, пошитую на последние деньги, — могли попадать все встречные мальчики, если бы они могли с первого взгляда уловить, кто перед ними, и девчонки, пока не распознали.
По утрам и вечерам в летней форме становилось уже холодновато, но это ерунда, и если Манюшка с нетерпением ждала, когда выдадут зимнюю, то больше всего из-за ботинок.
Жила она на частной квартире, как и большинство спецшкольников. В маленькой комнатушке едва помещались две кровати, стол и два стула. На второй кровати спала хозяйкина выучка Марийка.
В спецшколе все словно позабыли, что Доманова — девчонка. Манюшке даже казалось, что преподавателям указание дали такое — не обращать внимания на ее пол. С первого же дня географ упорно называл ее бездельником, Лесин — голубчиком, остальные тоже обращались с нею, как с любым другим ее товарищем. Что касается спецшкольников, то тут существовал целый спектр отношений.
В четвертом взводе Манюшка была принята как своя почти сразу. Тут многое было за нее: и то, что большинство ребят были старше на два-три года и чувствовали себя покровителями, и своеобразное тщеславие: единственная девочка в спецшколе — наша, и общие интересы. При ней говорили почти обо всем, доверяли ей, как всем, и даже звали с легкой руки Толика Захарова мужским именем — Мáрий. Но, конечно, забыть совершенно, что она девочка, было невозможно: каждый чувствовал границу, установленную природой, и никто не мог ее переступить ни с той, ни с другой стороны. Скажем, анекдоты при ней гнули почти любой солености, а вот уже сквернословить просто так — редко кто отваживался.
Вторая рота относилась к Манюшке, как к троюродной — вроде бы и родня, а больше все-таки чужая. Однако все ее знали: ведь целый день толклись на переменках на одном этаже, по нескольку раз строились. Все примелькались друг другу. Многие ребята при случае выказывали ей дружелюбие, но находились и такие, что отпускали едкие, злые, иногда и сальные шуточки.
Ну, а для первой и третьей роты Манюшки вроде как и не существовало. Подавляющее большинство ребят ее не знали, кое-кто даже не слышал о ней, а и прослышав, не торопился лицезреть: хватало дел и поважнее.
Как и все, Манюшка жила по строгому распорядку. В 7.30 — подъем. Умывшись, она выходила из дома и, поеживаясь от ядреного стылого воздуха, бежала в школу. Из близлежащих улиц и переулков в том же направлении спешили озабоченные новым днем спецшкольники. Группки соединялись в ватаги, а у ограды спецшколы уже образовывалась большая толпа, валом валившая в калитку, а затем в двери. Вокруг слышались хрипловатые спросонья голоса:
— Физик должен вызвать, так что пара обеспечена. — Если знал, что вызовет, чего ж не подзубрил? — Вызубришь с нею, как же: еще минутку да еще полчасика — глядь, уж и на сон времени почти не остается. — Майор говорил, на парад пойдем тремя коробками, так что не все попадут. — Попадем — хорошо, не попадем — еще лучше. — Заливай, заливай! — После наших ужинов всю ночь кусок мяса снится. Два пирожка с ливером — разве это ужин для здорового мужика? — Думай не про жратву, а про возвышенное, тогда не котлеты, а ангелы будут сниться. — Меняю пять ангелов на две порции котлет с картошкой…
— Дверь закрывайте! — тщетно взывал озябший часовой.
Оттащив учебники в свои классные комнаты, все снова спускались в вестибюль. В 7.45 во дворе школы начиналась физзарядка. За две-три минуты до восьми звучала команда: «Сомкнись!» — и рота шла на завтрак.
Занятия начинались в 9.00. Кусочек свободного времени перед их началом был заполнен воспоминаниями о вчерашних вечерних событиях, если таковые произошли, всякими смешными историями, досужим трепом. А кое для кого это были единственные спасительные минутки, когда можно хотя бы слегка подготовиться к первому уроку — прочитать разок заданные на дом страницы учебников или перекатать у «головастиков» задачи.
Последний, седьмой, урок заканчивался в 15.15. Через полчаса старшина Мигаль строил роту на обед. Построив, докладывал капитану Тугорукову. Сухощавый, с ввалившимися щеками, затянутый в скрипучие ремни, командир роты стоял перед строем и, поворачивая голову то вправо, то влево, тихим вкрадчивым голосом делал замечания:
— Не шевелиться, не шевелиться! Рр-разговорчики! Тих-тих-тих!
Лицо его, подрезанное сверху узким лбом, переходящим в широкую лысину, принимало в эти минуты такое выражение, будто он собирался сообщить важную новость. Когда наступала тишина, капитан тщательно выравнивал роту, словно готовил ее к прохождению торжественным маршем, после чего обращался к старшине: