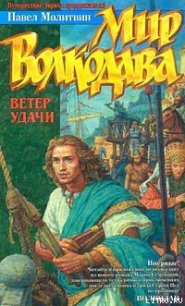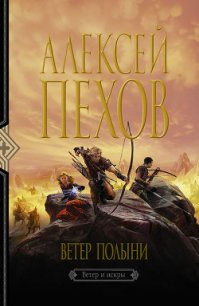Ветер удачи (Повести) - Абдашев Юрий Николаевич (книга регистрации .txt) 📗
— Закурить не найдется? — спросил он устало.
Костя с готовностью развязал кисет.
— Короче, никто не вышел, — сказал Киселев и шумно сморкнулся двумя пальцами. — Все там остались. Вы когда-нибудь видели бойню? Я не видел. Но теперь знаю, что это такое. Лежат вповалку друг на дружке… У меня всех побило. Последние мины мы с Азатом уже вдвоем выпустили, последние патроны расстреляли. А тогда — минометы в речку и сами на тот берег. Местами-то с головой было. Азат чуть не потонул. Вода ледяная, об камни бьет. В тот момент ничего не чувствовал. Как выбрались на другую сторону, до сих пор не знаю. Помню только, в кусты нырнули, а тут, на счастье, сухое русло. Ложбина в горе промыта. По ней-то мы и пошли. Там вскорости Лину встретили. Она раненого на себе тащила. Тоже насквозь мокрые и оба в крови. Сели, воду из сапог вылили и дальше, дальше. Раненого по очереди волокли. Только умер он на второй день. В шею был ранен. Похоронили кое-как. Шинель его Азату досталась.
— А что, немцев так ни разу и не встретили? — спросил Костя.
— Вчера чуть было не нарвались. Вовремя голоса услышали. Пришлось обходить, прятаться. Без патронов, с пустыми руками немного навоюешь. А карты нет — и вовсе как слепые. Шли вверх по ручьям, главный водораздел искали. На вас мы случайно вышли.
— А что за части у немцев, не слыхали?
— Эдельвейсы, черт их подери. Первая альпийская дивизия. Полк вот забыл, наши разведчики говорили…
— Ладно, отдыхайте, — сказал, поднимаясь, Костя, — набирайтесь сил. До вечера времени много. Это мне теперь глаз не сомкнуть.
Силаев отозвал его в сторону.
— Оружие ты им, однако, зря вернул, — шепотом заговорил он. — Помнишь, о чем капитан говорил?
— Ты что, за шпионов их принимаешь? — рассмеялся Костя.
— Да не-е, я не о том. Инструкция… Для чего же нас тут поставили? И Кирилл твой чумной какой-то. Долбанули бы этого дезертира, и делу конец. А теперь думай…
После ужина Силаев заступил на пост. Погода начинала портиться. Костя спустился в блиндаж. Киселев о чем-то возбужденно рассказывал Кириллу. Остальные тем временем разжигали огонь в печке. Снаружи доносились резкие порывы южного ветра. Похоже было, что снова дождя надует.
— Лина у нас героическая девушка, — говорил Киселев. — Представляешь, одна раненого через речку…
— Надо же, — засмеялась санинструктор. У нее были покатые округлые плечи и широкие в кости крестьянские руки.
— Я серьезно, братцы. Жертвенность в характере русской женщины. Война — ее призвание.
— Что ты, — встрепенулась Лина. — Война — это прежде всего беда. Если у меня и есть настоящее призвание, так это доить коров. Мне корова сроду давала молока на два литра больше, чем остальным.
— Выходит, слово особое знаешь.
— Это точно. У нас говорят: ласковое словечко и скотине любо. Еще девчонкой, помню, была, в хлеву приберу, все выскребу, соломки свежей постелю, занавески марлевые на оконце повешу. Цветы даже приносила. Дою коровушку, лбом к теплому животу прижмусь, а сама песни ей напеваю. Молоко в подойник — цвирк, цвирк. Она слушает, ушами водит и глаз большой, выпуклый косит на меня. Реснищи вот такие…
— С коровой проще, — вздохнул Костя.
— Это точно, — подтвердил Кирилл, — не те проблемы.
— Сержант, про Володьку не думай, — махнул рукой Киселев. — Никуда не денется.
В трубе зашумело пламя, запахло горячей кирзой и распаренным сукном шинелей. Младший лейтенант, выспавшийся и теперь захмелевший от сытости, поправил на плече портупею и вдруг стал напевать простуженным голосом:
Сулимова потрепала его по голове.
Пихтовые дрова трещали, постреливая через открытую дверцу жаркими искрами. Железные бока печки раскалились до вишневого цвета, бросая на лица багровые отсветы.
Дав короткую передышку на один-единственный день, будто специально для того, чтобы люди смогли обсохнуть и воспрянуть духом, небо снова отгородилось от них плотной завесой туч. Почти всю ночь не переставая резал косой дождь. При сильных порывах ветра он всплесками барабанил по натянутой плащ-палатке. Только утром дождь прекратился на короткое время, и, пользуясь этим, все выбрались наружу, чтобы помыться и поразмять кости.
Временами на перевал наталкивалось одиноко блуждающее облако, и тогда все тонуло вокруг в белесоватой мути, словно в курной бане, когда там хорошенько наддадут пару. Облако мягко обволакивало, забивало легкие, и становилось трудно дышать.
Кирилл все время думал о Коневе. Где его носит под этим дождем? А может, он и вправду решил податься к немцам? В это не хотелось верить.
Лина закатала рукава выше локтя и широко расстегнула ворот гимнастерки. Азат сливал ей в пригоршни воду. Шея и руки у санинструктора были белые, не тронутые загаром. Защитную хлопчатобумажную юбку распирали мощные бедра, казалось, она вот-вот треснет по швам. Шония и Киселев украдкой наблюдали за ней, впрочем, делая вид, будто Лина их вовсе не интересует.
Снова пошел дождь, и младший лейтенант направился к блиндажу.
— Как думаешь, — повернулся он к Косте, — меня сразу пошлют на передовую?
— Наверное, отдохнуть дадут.
— На кой черт мне их отдых…
— Наши идут! — раздался вдруг торжествующий возглас Кирилла. — Старшина и еще двое.
— Наш Остапчук никогда никуда не опаздывает, — сказал Костя. — По нему часы проверять можно.
Вместе со старшиной на перевал пришли политрук роты Ушаков и молчаливый пожилой боец Саенко, которого в роте старались использовать на всяких хозяйственных работах. На нем красовалась кубанка с полысевшим каракулем. Поверх нее он натянул серый башлык, длинные концы которого были замотаны вокруг шеи. Саенко вел под уздцы навьюченную лошадь. Все трое тяжело переводили дух и с любопытством поглядывали на неожиданное пополнение. Их тяжелые, набухшие от дождя шинели стояли колом.
Слушая доклад сержанта о событиях последних дней, Ушаков только хмурился и кивал. Мокрая брезентовая фуражка с прямым козырьком не могла скрыть смертельной бледности на его скулах и побелевшем кончике носа. Он хрипло дышал и держался за грудь.
Ушаков пригласил в блиндаж Киселева и его спутников, а бойцы заслона так и ринулись к старшине: больше всякого продовольствия они ждали писем.
— Нема, хлопцы, — развел руками Остапчук. — Оце, мабуть, ще пышуть. Шось наша полева пошта плохо робэ. Ото з Москвы пысьма аж через той… Ташкэнт шлють, — кисло пошутил он.
— Ну это далеко — Москва, Сибирь, понимаешь? — возмущался Костя. — А я, дорогой, из Очамчиры письмо жду. Тут раз-два пешком дойти можно.
— Оце тоби, Шония, подарунок замисть пысьма, — запуская руку в карман шинели, объявил старшина. — Пэрчина! Горлодер. Щоб дома нэ журылысь.
— Спасибо, Остапчук, спасибо, дорогой. Живи сто лет! — обрадовался подарку Костя и тут же спросил: — А что с нашим политруком, болен он, что ли?
— Асма у його, — сердито махнул рукой старшина, — трудна жаба! А он у ци, у горы. Нэ вдержишь…
Когда развьючили лошадь и затащили продукты в блиндаж, политрук уже заканчивал разговор с киселевцами. Судя по всему, результатами его он был доволен.
— Мне б и с вами троими потолковать, — подозвал он Шония. — За этим и шел. — Он повернулся к Остапчуку. — Прикажите Саенко, пусть побудет за наблюдателя, пока мы тут управимся.
Ушакову хотелось остаться с бойцами заслона наедине, но и под дождь выгонять людей было как-то не с руки. Народу в тесном блиндаже набилось так много, что стало душно и пришлось откинуть плащ-палатку. Свет, проникший через проем, сделал заметной густую сетку мелких морщинок на лице политрука.
Ушаков снял фуражку и пригладил редкие волосы.
— Когда мы шли сюда, — сказал он, — я все думал, с чего бы начать. Мне ведь по должности и по совести коммуниста положено поднимать боевой дух в подразделении. А задача эта сейчас не из легких: положение наше скверное, хуже некуда… Подумал, может, сказать какие-то общие слова о чести, о славе, об Отечестве. Вспомнить, наконец, о комсомольском долге, о героях-панфиловцах. Такие разговоры бывают нужны и полезны. Но не сейчас… — Он замолчал и полез в карман за табаком. — Сейчас нужно что-то другое, совсем другие слова, я бы сказал, ошеломляющие, как удар электрического тока. В конце концов, всем нам пора встряхнуться, заново осознать себя. И решил: нет ничего ценнее доверия к товарищу, нет ничего лучше правды.