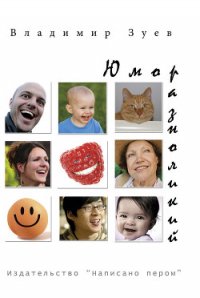Тропинка в небо (Повесть) - Зуев Владимир Матвеевич (книги хорошего качества TXT) 📗
— А теперь гак остався. Украинский же гак, як видомо, имеет два значения. Минимальное равняется основной величине, в данном случае трем километрам. А максимальное стремится до безмежности. Отаке-то.
От реки дорога повернула вправо и повела роту через лес. Запахло смолой, озоном (видно, недавно перепал дождик), струились еще какие-то терпкие и сладкие ароматы.
— До чего же хорошо кругом! — вдруг рявкнул знакомый бас.
— Тише! Гермис ударился в лирику!
Дорога вынырнула из лесочка, и впереди смутно забелели ряды палаток, проступили контуры каких-то строений.
— Эх и поспим! — потягиваясь и зевая, мечтательно воскликнул Мотко. — Зараз як ткнусь носом у подушку, так и вмру до самого обеду.
В лагере роту построили, и начальник лагсбора майор Кудрин объявил:
— Палатки внутри не оборудованы, поэтому спать придется на подручных средствах: шинель под голову, шинель под бок, шинелью укрыться.
— Да и шинелей же нет, — пробормотал рядом Матвиенко.
— Подъем по распорядку — в шесть ноль-ноль.
— Так зараз уже около трех! — простонал Мотко.
— Не ныть! Солдат есть солдат. Все! Размещайте роту, товарищ капитан.
Манюшке повезло: ее поселили в нормально оборудованную палатку, где жили женщины — обслуживающий персонал. Они прибыли сюда несколько дней назад, вместе со второй ротой, и уже успели обжиться.
Манюшка как прикоснулась щекой к прохладной подушке, так и не шелохнулась до самого подъема. Да и спать, показалось ей, не дали нисколечко — едва закрыла глаза, сразу раздался сигнал и закричал дневальный. В голосе его почудилась ей злорадная нотка.
Снаружи послышался какой-то невнятный шумок, потом команду дневального подхватили голоса младших командиров, и через считанные секунды все перекрыл натренированный баритон старшины Мигаля:
— Первая рота, строиться на зарядку! Форма — трусы!
Ах, как же не хочется вставать! Голова как из железа и подушка притягивает ее, как магнит. И глаза никак не открываются. В голове царапаются обрывки каких-то мыслей… Все-таки пора вставать. Надо рывком сбросить одеяло!.. И кажется, одеяло уже сброшено, она уже бежит по росной траве… Но нет, это во сне… Господи, еще хотя бы минутку!.. Становится в строй, делает зарядку… Во сне, во сне!.. Может, опоздать? Ну, можно же разок!..
А тут еще женщины — двое из них тоже встали, готовить завтрак, — видя, как мучается Манюшка, начали уговаривать ее:
— Да поспи ты чуток, за один-то раз не развалится твоя дисциплина.
— Ишь, вон как тебя корежит, будто лихоманка. Не бойся, сюда командиры твои не сунутся.
Да что, в самом деле, один-то разок можно сачкануть! Но имелось у Манюшки словечко — талисман не талисман, заклинание не заклинание… В общем, в детстве, когда погиб Велик, она договорилась сама с собой: пусть его имя отныне будет для нее как приказ «Делай, как надо», и если она хоть раз не выполнит его, — это будет равносильно предательству. И сейчас, борясь с искушением, чтобы поднять себя с постели, она сказала одно только слово: «Велик».
Тоненько подскуливая, как пришибленный щенок, кряхтя и вздыхая, сползла с постели, спотыкаясь на каждом шагу, выбралась из палатки и поплелась на линейку.
Рота уже построилась, и старшина собирался подать последнюю команду. Увидев Манюшку, он закричал:
— А ну-ка бегом в строй! Ишь прогуливается, а ее жди!
И Манюшку будто подхватила какая-то сила, упругая и равнодушная, как ветер, поставила в строй, бегом погнала за два километра к речке, там заставила делать зарядку, купаться в холодноватой еще воде и бежать назад. И частица этой силы незаметно перелилась в нее, быстро погнала воздух и кровь в теле, очистила легкие, сердце и голову, и вот уже она готова хоть землю копать, хоть камни таскать. И Манюшка снисходительно улыбнулась, вспомнив свои недавние муки при подъеме.
— Ну, почалось, — поспешая на утренний осмотр, сказал Мотко с неопределенным смешком — то ли осуждающим, то ли одобрительным. — Теперь тильки держись.
День был расписан по минутам. После утреннего осмотра — урок, потом завтрак, еще пять уроков, купанье, обед. Остальное время отводилось на часовой отдых, самоподготовку, спорт и культмассовую работу. Собственно говоря, трудовое напряжение спадало с окончанием последнего урока. После обеда только самоподготовка была обязательным делом, спортивные же соревнования, игры, выпуск боевых листков и стенгазет, репетиции художественной самодеятельности — полудобровольные мероприятия, в которых участвовали не все ребята. Так что всегда можно было выкроить часок-другой для тихой и теплой Самары и окрестных перелесков. После ужина, если не крутили фильм, опять же можно было «сачковать на природе». В двадцать три ноль-ноль раздавались протяжный убаюкивающий сигнал трубача «спа-ать, спа-ать» и задушевный голос дневального под грибком: «Отбой».
Жила Манюшка вместе с поварихами тетей Тосей и Анной Григорьевной, секретарем начальника лагсбора Зиной и зубным техником Викой. Все, конечно, знали ее историю. Поварихи, женщины детные, в возрасте (тете Тосе было тридцать пять, Анне Григорьевне — все сорок) почему-то жалели Манюшку, удивлялись ее выбору и в меру осуждали: «Баба есть баба и нечего ей в мужицкое дело лезть, сейчас не война».
Зина, двадцатипятилетняя девушка, не потерявшая еще надежды завести семью и преувеличивавшая, по мнению Манюшки, значение этой проблемы в жизни, очень одобряла ее выбор профессии: «Легко будет замуж выйти, кругом мужчины, искать не надо, только выбрать сумей».
Вика же, хоть и была на три года старше Манюшки, смотрела тем не менее на нее как на более опытного в жизни человека. Вначале она все ахала: как это может Манюшка одна быть среди ребят почти круглые сутки, ведь это ж только от их шуточек и намеков можно помереть со стыда. Через недельку Вика уже так привязалась к новой подруге, что каждую свободную минуту старалась провести с нею, откровенничала до того, что Манюшке, незнакомой с такими человеческими отношениями и не привыкшей к душевным излияниям, даже становилось неудобно, совестно, и она торопилась замять разговор.
Однажды Вика призналась, что влюблена в одного спеца.
— Я знаю этого дурака в клеточку? — нарочито грубо осведомилась Манюшка, чтобы сразу отбить у Вики охоту откровенничать на эту тему.
— Ой, Маша, как ты… Все-таки портит тебя мужское окружение…
— Глупости! Я сама кого хочешь испорчу… И зови меня, пожалуйста, как все, — Марием.
— Хорошо, это даже красивее и больше тебе идет… Мы с ним познакомились у меня в кабинете. Я ему левый верхний второй удаляла. Можно было бы еще полечить его, но он: «Нет, выдирайте, я от него и так натерпелся». С тех пор мы и не говорили больше ни разу, но я видела его каждый день. Спущусь иногда на третий этаж, когда переменка, стану у окна и жду, когда пройдет. И здесь вижу… Мы должны встретиться — у него развивается кариес на правом нижнем четвертом. Рано или поздно все равно придет ко мне, только вот когда это будет… — Вика вздохнула.
Они сидели на скамеечке у входа в палатку. В лагере было тихо, но в темноте просматривалось интенсивное движение на линейках, слышался приглушенный говор.
— Так этот тип — что, из нашей роты? — заинтересовалась Манюшка.
— И даже из вашего четвертого взвода. — Голос у Вики стал совсем печальным. — Его фамилия Трош Александр… Саша.
Манюшка даже присвистнула.
— Барон! Так, так… Ты давай поосторожней с ним — он такой юбочник, не приведи господь! Хоть и нехорошо товарища закладывать, но тут уж я по дружбе обязана предотвратить дурное дело.
— Да какое дурное дело? — вдруг заволновалась Вика. — Ну, какое дурное? Эх, а я хотела тебя попросить… посодействовать как-нибудь.
— Ну, нет! Чтобы я, своими руками, подсунула тебя этому великосветскому развратнику? За кого ты меня принимаешь?
— Да ты просто намекни ему… Ну, как в песне: «Что одна дивчина думает о нем». И все. Как он прореагирует? Сделаешь, Марий? Я тебя очень прошу, умоляю… — Она обняла Манюшку и прижалась щекой к ее щеке.