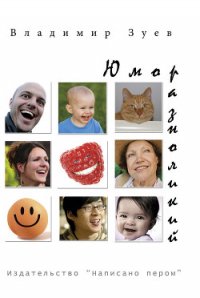Тропинка в небо (Повесть) - Зуев Владимир Матвеевич (книги хорошего качества TXT) 📗
— Не знаю. Чтобы тебя отчислили, ясно — никому. А вот чтобы ты объявился — наверно, тебе самому. Вот во время войны, когда немцы выстраивали наших пленных и говорили: «Коммунисты, комиссары и командиры — три шага вперед!» — то ведь все они выходили. Зачем? Может, чтоб не показать себя трусами перед своими бойцами, а? Как считаешь?
У Захарова порозовели скулы, а глаза, обычно ироничные и озорные, попритухли.
— Дурацкое, извини, сравнение. Слишком разные масштабы, Марий. А кроме того, я не считаю, что они поступали правильно. Сами себя выдавали фашистам — что ж тут правильного?
— Ты что, а?
— А как иначе это назвать? Они выдавали себя, а их расстреливали. Кому от этого польза? Только фашистам.
— А тебе не кажется, что ты… в общем-то… оскорбляешь их память? — вмешался подошедший Матвиенко.
— Нет, не кажется. Я снимаю шапку перед их мужеством, но…
— Ага, значит, ты признаешь, что они поступали мужественно. Значит, если бы они затаились, они поступили бы трусливо?
— Я никогда не сомневался в ваших схоластических способностях, Василий Андреевич, но давайте рассуждать здраво, без трепотни. Идет война, есть враг — фашист, и каждый свой поступок нужно… ну, каждый раз надо себя спрашивать: вот если я сделаю так — во вред это фашисту или в пользу? Возьмем данный случай. Если бы они остались живы, кто-то из них смог бы сбежать и снова воевать, а кто-то боролся бы в лагерях, в подполье. Вот это и значило бы — не отречься от себя.
Захаров подавлял своей железной логикой. Манюшку это и восхищало, и раздражало: все-то он знает, подумаешь, учитель нашелся!
— Во-первых, а что подумали бы солдаты? — сказала она, тоже стараясь выстроить нерасторжимую логическую цепочку и невольно подражая Захарову. — Ага, струсили комиссары? Вот они какие! Во-вторых, часто немцы ставили условие: если не признаетесь, расстреляем всех. Что ж, по-твоему, пусть из-за одного гибнут все наши, ждать, пока кто-то слабонервный выдаст?
Разгорячившись, спорщики вопили во всю мощь своих глоток, вокруг них собралась толпа, и в ней, как головешки в костре, тлели и разгорались споры на эту же тему. Захаров, между тем, добивал своих оппонентов.
— Во-первых, солдаты должны были подумать то же, что и комиссары: пока жив, надо воевать с фашистами, воевать в любых обстоятельствах и любым оружием — хитростью, ловкостью, обманом, и в плену задача — выжить. А отсюда — и во-вторых, и в-десятых. Солдат и в плену солдат, должен воевать до последнего. И на слабонервных нечего равняться. Слабонервные есть и не в плену — дезертиры, самострелы и прочая шваль.
— Погоди. У меня есть и во-вторых. Ты совсем забыл о такой «мелочи», как человеческая честь. Может, для настоящих людей не признаться, не выйти из строя значит от себя отречься. Сломаться. Предать себя. Да для них это, может, равносильно самоубийству было.
— Ну, начались высокие материи, — скривился Толик. — Друг Марий, не говори красиво, это каждый может, говори честно.
— Н-да-а, — протянул Матвиенко. — Почему ж они все-таки… кхе, кхе… выходили из строя?
— Так воспитаны, — пожал плечами Захаров. — Вы с Марием тоже сдуру вышли бы.
— Точно. Марий вчера доказала это. А некоторые… от большого ума… кхе, кхе…
У Толика опять порозовели скулы. Хорошо, что в это время зазвенел звонок, и все отправились по своим местам, не то спор, похоже, мог затянуться до бесконечности.
У Манюшки долго еще потом саднило в душе. То, что она вышла к Пятерикову — это правильно, тут у нее сомнений не было. Но в чем-то Захаров, наверно, прав, хоть и зло на него берет, когда он начинает все по полочкам раскладывать. Чего тут спорить — обмануть, обхитрить, одурачить врага, чтобы потом бить его, — святое дело… Но когда о самых честных, мужественных тот, кто и пороху не нюхал, говорит: зря они подставляли себя под расстрел — слушать невыносимо, это ведь как плевок им вдогонку. И все же, все же, все же… Пока в душах людей живут честь, достоинство, совесть — человечество не погибнет. И, может, в жизни каждого человека должны быть поступки, которые выше трезвого расчета?..
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Богатыри и их «кони»
На экскурсию в боевую авиачасть поехали по пять человек от каждого взвода. От четвертого — старшина роты Мигаль, помкомвзвода Славичевский, комсорг Захаров, «головастики» Доманова и Матвиенко.
Ребят доставили на аэродром, привели на пункт управления полетами. Из большой комнаты, уставленной пультами и приборами, видно было летное поле, вдали — ангары. Слышался непрерывный гул моторов: самолеты поодиночке, парами и тройками взлетали, делали круги над аэродромом, улетали куда-то за пределы видимости, шли на посадку. Майор за пультом негромко отдавал команды. Иногда голос его повышался, в речи появлялись неуставные словечки, и тогда он косил недовольным глазом в сторону спецов. А они сбились в кучку и присмирели: буднично-деловая, суровая обстановка действовала как команда «смирно».
Высокий подполковник с сухим неулыбчивым лицом — замполит командира полка повел ребят к одному из ангаров. День был ранневесенний — с легким морозцем, плавящимися на солнце льдинками лужиц, тяжелым влажным воздухом.
В ангаре перед ними предстала горбатая тупорылая машина со слегка скошенными назад крыльями. Манюшка, впервые увидевшая самолет на земле и к тому же так близко, никак не могла заставить себя поверить, что это та самая небольшая гудящая птица, что быстро проносилась над головой на средних высотах или маленькой точкой почти беззвучно перемещалась в далекой-далекой голубой вышине.
— Что, Марий, хорош красавец? — вполголоса сказал рядом Толик. — Главный самолет войны.
Манюшка покосилась на него с некоторым удивлением: в последнее время отношения у них были натянутые. Даже нет, не натянутые. После того спора у географической карты Захаров перестал подходить к ней, не приглашал больше в парк. Если обращалась к нему Манюшка, отвечал дружелюбно и выполнял просьбу, но продлить общение не стремился. Ее это задевало: она и сама почувствовала какой-то сбой в отношении к нему, разочарование — как если бы тянулась к тайне и вдруг однажды узнала, что никакой тайны нет…
Подполковник, оказавшийся рядом, благожелательно глянул на Захарова.
— Точно: машина, которую вы видите сейчас, — главный самолет войны, «летающий танк», «горбатый», штурмовик Ил-2. Чтобы не быть голословным, вот такая цифра: за годы войны мы выпустили сто восемь тысяч двадцать восемь самолетов, из них сорок одна тысяча «илов»… Вообще мы должны сказать доброе слово о Сергее Владимировиче Ильюшине. У него и кроме этого были знаменитые самолеты — например, бомбардировщик Ил-4.

Он использовался для рейдов по тылам противника. На нем балтийские летчики летом сорок первого — обратите внимание на дату — в самом начале войны! — впервые бомбили Берлин.
— Расскажите о штурмовике поподробнее, — попросил Мигаль. — Чем он взял? Почему такая слава?
Подполковник будто ждал этого вопроса: у него даже глаза заблестели. Он, видимо, был влюблен в «горбатого» и рассказывать о нем начал не сразу, а все как бы издалека подбирался.
— Ну, во-первых, два слова о броне. Без нее самолет беззащитен. Интересный факт: в годы первой мировой летчики, чтобы защититься, стали подкладывать под сиденья чугунные сковороды. В русской авиации броня впервые появилась на самолетах БИКОК-2 — «Илья Муромец» — и на «летающих лодках» М-9 Григоровича. К концу первой мировой войны был создан бронированный разведчик Ю-1 — тяжелый и тихоходный. В 1936 году под руководством Туполева построили АНТ-17, или ТШБ — тяжелый штурмовик, бронированный. Броня весила около тонны, самолет имел мощное вооружение. А скорость по всему поэтому была всего 256 километров в час… Броня создала парадоксальную ситуацию. Она была нужна только в короткие мгновения боя, а в остальное время являлась мертвым грузом. К тому же самолет за свою неуязвимую рубашку платил высокую цену скоростью и маневренностью.