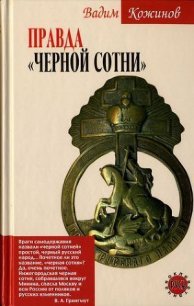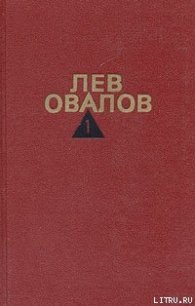Двадцатые годы - Овалов Лев Сергеевич (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Она не смотрела на сына. Смотрела куда-то в глубь себя.
— Что же ты мне скажешь? — боязливо спросила Вера Васильевна. — Ну что, что?
— А вот что! — Он вдруг поднялся и побежал прочь из комнаты.
Вера Васильевна растерянно обернулась к гостье:
— Ольга Павловна, извините…
— Ничего, ничего, — негромко и задорно ответила та, поднося к губам чашку. — Мужчина! Когда корабль моего брата шел ко дну, не было силы, которая бы заставила его сойти с капитанского мостика.
— Нет силы… Разве легко, когда кто-нибудь из твоих близких идет ко дну?
Судьба старшего сына вызывает у Веры Васильевны вечные опасения. Не то что она меньше любит Петю, но Петя яснее, проще. Гораздо положительнее Славушки. Он всегда держался и будет держаться дома. А Славушка все куда-то рвется, к чему-то стремится…
Она посмотрела в окно. Позвать? Нет, не догнать, не воротить…
За окном пылил летний дождичек, он не омрачал день, даже веселил, даже поднимал настроение.
«Вот бы сейчас по грибы», — подумал Славушка… Но это не Подмосковье — поля, поля, начало бесконечных степных пространств, никаких здесь ни грибов, ни лесов… И вообще ему не до грибов. Надо быть посерьезнее, он идет на партийное собрание, партийное…
Необычное оставляет нас равнодушными, а заурядное изумляет! Произойди посреди Успенского извержение вулкана, Славушка меньше удивился бы…
Славушку остановил в сенях Павел Федорович:
— Слыхал, собираешься в партию?
И этот туда же. Ему-то какое дело? Он мне никто, никто и пусть не учит предусмотрительности, все равно ничего не повернуть…
— Да, — сказал Славушка. — Что дальше?
— Молодец! — неожиданно произнес Павел Федорович. — Так и надо, парень ты дальновидный, оказывается…
Оказывается, он одобряет!
— Иди, иди, не задерживаю, — продолжал Павел Федорович. — Наперед извиняюсь, не понимал тебя, смотришь в корень…
Точно оплевал. Слава богу, посыпал дождь, веселый, легкий, солнечный, как бы обмыл после этих слов. И вот он сидит в волкомоле и слушает отчет Данилочкина о работе волземотдела.
Но все это мимо, мимо, о сельхозинвентаре, о выпасах, о предупреждении эпизоотии, стыдно, но мимо, сейчас будут спрашивать его, что он скажет?
Степан Кузьмич обычен, неужели не понимает, не чувствует…
— В текущих делах два заявления: Перьковой Анны Ивановны, критовской учительницы, и Славушки… Ознобишина Вячеслава… — Быстров улыбается… — Николаевича… — Сует руку за пазуху. — Да где же они? — Ищет и не находит. — Куда же запропастились? Ну, вы мне поверите, заявления были…
— Без заявлений нельзя, — твердо говорит Семин.
— Но ведь были… Да и Ознобишин здесь лично присутствует!
Семин нехотя соглашается:
— Его еще можно обсудить…
— А кто рекомендует?
— Еремеев и я…
Данилочкин почесывает затылок. Чудной мужик, с большой хитрецой и в то же время правдолюбец. С ним было так: напился как-то в Журавце на чьей-то свадьбе, а потом явился на заседание волкома и говорит: «Прошу вынести партийное взыскание, недостойно вел…»
— Надо докладывать? — спрашивает Быстров.
— Чего там! — Данилочкин машет рукой. — Знаем как облупленного. Впрочем, у меня вопрос. Товарищ Ознобишин, ответьте: живете вы в буржуазном окружении, Астаховы нам не друзья, как надо с ними поступить?
— Заставить строить коммунистическое общество.
— Врагов? — ужасается Еремин. — Тебе, парень, еще воспитываться…
— А он прав, — отвечает Быстров вместо Ознобишина. — Одними чистыми ручками ничего не построишь…
— Подождите, Степан Кузьмич, — останавливает Быстрова Данилочкин. — Пусть товарищ Ознобишин сам пояснит, как он это понимает в отношении гражданина Астахова?
— А так, — говорит Слава. — Дросковский механик не захотел в Успенском остаться. Вот и заставить самого Павла Федоровича работать на мельнице…
— Идея! — вскрикивает Данилочкин. — Об этом подумаем…
Степан Кузьмич задает неожиданный вопрос:
— А как мама, одобряет тебя?
— Нет, — честно признается Славушка, — говорит, что политикой… заниматься… опасно…
— Еще бы не опасно! — восклицает Данилочкин.
— Но вы-то сами готовы к опасностям? — спрашивает Семин. — Коммунист должен быть готов…
— А он готов! — вмешивается Еремеев. — Пошел против деникинцев?!
— Об этом можно не говорить, это доказано, — подтверждает Быстров. — Меня что смущает, не будет ли у него дома неприятностей.
Слава гордо вскидывает голову:
— Кажется, я самостоятельный человек…
— Подойдем к вопросу с другой стороны, — говорит Данилочкин. — Не грозят ли вам неприятности со стороны гражданина Астахова, открыто бросаете ему перчатку, не ровен час, он может вас и того…
— А он наоборот, — простодушно успокаивает его Слава, — он даже одобряет.
— Что одобряет?
— То, что я в партию…
— Постой, постой… Как одобряет? Ему-то какая корысть?
— Свой коммунист в доме, — объясняет Данилочкин.
— Может, воздержимся? — предлагает Семин.
— Воздержимся? — переспрашивает Быстров. — Вот если бы он нам этого не сказал, следовало бы воздержаться, а он перед нами как на духу. Расчет Астахова понятен — коммунист в доме, замолвит при случае словечко, и опасения Василия Тихоновича понятны. Но… — Быстров приглушает голос, — хочу вам доверить один секрет, только прошу, чтобы никому! Нефть-то мы нашли с помощью Ознобишина. Свой коммунист и помог.
Против Славушки не голосует никто, но происходят две удивительные вещи — его принимают без кандидатского стажа и сразу же выбирают делегатом на уездную партийную конференцию.
Предложение принять без кандидатского стажа не вызывает возражений, он оправдал доверие партийной организации, но по поводу избрания на уездную конференцию Семин возражает решительно:
— Только приняли — и представлять организацию?
— А когда его в политотдел посылали, ты не возражал, что он будет нас представлять? Уездная конференция — школа. Он возглавляет у нас комсомол…
На конференцию Быстров проталкивает Славушку с трудом, но очень уж хочется привезти в Малоархангельск самого молодого коммуниста во всем уезде, вот, мол, смотрите, какие орлята растут у нас в волости!
52
Предрассветный холодок забрался за ворот. Славушка поежился и шагнул к бедарке.
Быстров не отпустил вожжей, Маруська тотчас бы помчалась без следа, без пути, куда глаза глядят, лишь бы вперед, все вперед, подобно своему хозяину…
Славушка забрался в бедарку, Быстров сунул ему вожжи:
— Подержи минуточку.
Маруська стояла как вкопанная, как чугунная лошадка каслинского литья, но чуть вожжи натянул Славушка, заперебирала, заперебирала ногами, принялась рыть землю передними ногами, какая-то жилка заиграла на крупе, задрожала под кожей. Быстров спрыгнул на землю, потрепал Марусю по крупу.
— Ах ты, чертушка…
Вера Васильевна выбежала на галерею, протянула узелок.
— Тут хлеб, яйца…
Протянула узелок сыну, а ему неудобно.
— Степан Кузьмич, я вас очень прошу…
— Не беспокойтесь…
Опустился рядом с мальчиком, перехватил вожжи, прищелкнул языком, Маруська круто повернулась и понеслась.
Мимо сонных изб, за околицу, через Поповку…
Вся поездка как струна, точно протянули прямую линию от Успенского до Малоархангельска: пыль на дороге, придорожные ветлы, поля в тени, спуски, подъемы, и опять подъемы и спуски, а Маруся как вихрь, и Быстров как вихрь, и все сильней и сильней голубеет небо.
Дорогу промчались часа за три, Маруся — орловских кровей, лишь под самым Малоархангельском легкая изморось выступила на ее вороных боках, в Малоархангельск внеслась как птица и замерла перед знакомым домом, где всегда гостевал Быстров.
Утро вступило в свои права, молчали псы в подворотнях, лениво тянулись к выгону коровы, то тут, то там шли от колодцев женщины с ведрами, и все вокруг обволакивал запах горящего торфа, до того сладкий и пряный, что у Славушки закружилась голова.