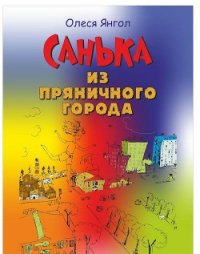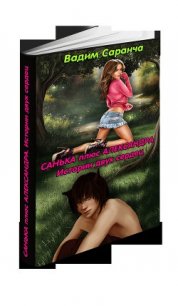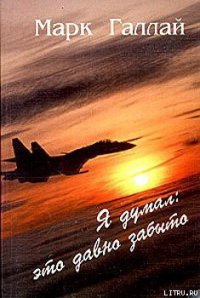Дорога стального цвета - Столповский Петр Митрофанович (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Долго потом сидел на крутолобом валуне и полоскал, полоскал издырявленные ступни на упругом течении. Видимо, вода вымыла из ранок соль дальней дороги и лечила кожу. Наклонившись, Зуб черпнул пригоршней тугую струю.
Вода была горькой. Или ему показалось?
Он еще зачерпнул. Да, горьковатая, словно слезы. Это ж надо — целая река слез! Кто ж их наплакал? В горах река течет по каким-то горьким минералам, не иначе.
Начался нудный осенний дождь. Зуб обулся и двинулся дальше берегом горькой реки. Идти стало легче. В стороне тянулась дорога, по которой изредка гудели машины. Но Зуб не обращал на них внимания. Дорога безденежных не любит. Уж как-нибудь сам доползет с передыхом. Вон сколько от Луково проехал, а это разве расстояние?
Часа через два показался поселок. Вернее, сначала показались шахтные постройки, а уж потом дома. Как писал дядька, его дом стоит с краю, сразу за кирпичным заводом. Горняцкая, дом 2 — он помнит.
Чем ближе подходил к поселку, тем больше начинал волноваться. Как войдет в дом, что скажет? А как дядька встретит? Обрадуется ли? Видок у его племянничка, конечно, не очень привлекательный, добрые люди таких стороной обходят...
«Что будет, то и будет!» — решил Зуб. Но волнение его все равно не оставляло. Он все задавал себе вопросы, которые только путали, сбивали с толку. Как называть дядьку — просто дядькой или Василием Павловичем? А как он отнесется к тому, что его вытурили из училища? А что он скажет... А как он...
Миновал забор кирпичного завода. За ним — овраг. За оврагом начинается улица.
На большом длинном доме была прибита табличка: «Горняцкая, 2». И с той, и с другой стороны — калитки. Значит, два хозяина. Куда же заходить?
Зуб стоял столбом и не мог решиться. Когда нужно было прыгать на поезд, он не раздумывал так долго... Сердце колотилось. Как назло, кругом — ни одной живой души, у кого можно было бы спросить. Заметив у одной калитки щель почтового ящика, он подошел ближе. Может, фамилия где нацарапана.
— Здрасьте вам! — услышал он со двора. — Кого надо?
В глубине двора, у сарая стоял с вилами в руках старик. Был он высокий и сухощавый, но на вид крепкий. Одет в овчинную безрукавку, голова с глубокими залысинами непокрыта.
— Мне Зубарева Василия Павловича. — Сказал и замер.
— Зубарева?! Во как! — Старик как будто удивился. Неторопливо приставил вилы к стене сарая и направился к калитке, с любопытством разглядывая паренька в фуфайке. — Василь Палыча, говоришь? Что ж ты, милый, поздно стрянулся? Нету его, Василь Палыча.
— А где он?
— Где, где… Помер Василь Палыч. Второй уж месяц как помер, земля ему облачком.
Зубу показалось, что он стал стремительно уменьшаться в размерах. Или опять что-то сделалось с ногами? Они не хотят его больше держать. Зачем он, дурак, палку-то выкинул...
Но как же это? Он же ехал! Долго ехал! Почти как всю жизнь. Нет, такого не бывает, чтоб к человеку ехали, а его уже...
Он хотел крикнуть старику, что этого не может быть, что совестно на старости лет шутки этакие шутить! Но почувствовал, что голос пропал.
А старик, не дойдя до калитки, повернул в дом, поскольку все, что надо, сказал. Зуб постоял с минуту, собираясь с силами, и пошел на деревянных ногах, не зная даже, куда они его ведут.
59
Горька водица в реке. Видно, впрямь — слезы. С какого ж горя великого их столько наплакали?.. И дорога шла не по розовому. Розовое — это для сказок, в жизни же...
— А ты чей будешь?
Одна сказка кончилась. Должно, вторая теперь начнется...
— Слышь, сынок! Ты чего его спрашивал?
Зуб остановился. У калитки стоял тот, в безрукавке.
— Ну чего молчишь?— начал серчать старик,— Как, говорю, фамилия?
— Зубарев.
— Твоя, я спрашиваю, как фамилия?
— Зубарев.
— Дак... Божья мать! Эт как же?.. Не племяш ты ему?
Зуб кивнул.
— Эт который... Ну не дурень ли старый! Я ж подумал еще! — открыв калитку, он быстро направился к пареньку. — Детдомовец ты, так? Ну не
дурень ли! Вот и ушел бы, и поминай...
Зуб смотрел на старика и ничего не мог понять. Не сам ли это дядька его? Может, правда, шутку с ним такую пошутил?
— Пойдем, милый, заходи в избу. Не серчай, как звать тебя позабыл.
— Юрий.
— Вот-вот — Юрий! Ждал тебя Василий, мне про тебя рассказывал. Говорит, через годок, как кончит училище, должен приехать. А ты вон раньше. Маленько, видишь, дядька тебя не дождался.
«Нет, это не дядька, — снова сжалось сердце. — Сосед просто».
— А мы с дядькой твоим, Палычем-то, вроде как побрательники были. Во как! — не умолкал старик. — Писал он про меня, нет? Кружанков я, Семен Мироныч. Заходи, заходи! Хозяйка моя к дочке пошла внуков попроведать. Сейчас явится. А я тут с коровой управлялся.
Старик Семен Мироныч был человеком, видать, словоохотливым и по натуре добрым. Так и кружил вокруг Зуба. Заведя в дом, он сам снял с него фуфайку, бросил пол ноги стоптанные шлепанцы. Потом провел в горницу и усадил там на старый плюшевый диван с кругляшками по бокам. И все рассказывал, как трудно помирал дядька, у которого «проклятый рак в желудке завелся», как в последний день никого не узнавал, даже его, побрательника, только с Прасковьей — хозяйкой своей покойной — разговоры вел.
Комната была удивительно уютной. На полу — домотканые дорожки, на окнах — белоснежные занавески с вышивкой, шторы на дверях. Широкая деревянная кровать убрана без единой морщинки.
— Сыновья иногда приезжают, — кивнул на нее старик. Кровать старинная, с резными спинками. На комоде опять же вышитая крестом накидка. Круглый стол посередине с точеными ножками. Из горницы двери вели еще в две комнаты. Просторно живут хозяева.
— Сурового кроя был дядька твой, с пустым человеком знаться не желал, — рассказывал Семен Мироныч. — А душу имел прямо ребячью, все ему куда-то надо, минутки не посидит. Во как! И руки у него — чистое золото. Он те самую дохлую машину сейчас раскидает, туда, сюда, глядишь, через день-другой поехала как миленькая. К нему, знаешь, со всей области увечные машины тащили. Уж хворый, гнуться не может, а не отказывается. Я ему: Вася! А он: не могу, говорит, такого вытерпеть, чтоб машинам больничные давали. Добрые люди, говорит, для езды их делали. Во как! Прасковья-покойница тоже такая была беспокойная. Чужой человек в нужде, а она, бывало, места себе не находит.
Старик помолчал, горестно вздохнул:
— Божья мать! По таким разве людям смерти ходить? Он-то без нее всего годок вынес. Семен, говорит, хорошо ли, плохо ли, а мне теперь эта самая жизнь...
Последние слова Семен Мироныч произнес сдавленно и осекся, не договорил. Моргнул с усилием, на потолок уставился, словно ему там разглядеть чего надобно. Потом сердито сказал:
— Ладно, рассупонился... Я, знаешь, не люблю этого.
Успокоившись, он снова стал рассказывать о дядьке, о том, как они с ним воевали — «до самого ихнего Берлина дотопали, и все рядышком». Они и дом вместе рубили.Вдруг Семен Мироныч перебил себя:
— Ну, голова! Что ж я тебя баснями кормлю? Вишь, дорога как тебя приморила. Не спал, поди, а? То-то и вижу: лица на тебе нет. Мы, Юрик, вот что. Я сейчас баньку протоплю, да мы с тобой как напаримся! Заново народишься. Во как! А уж опосля сядем да пообедаем как надо. Потерпишь?
— Я помогу вам топить.
— Посиди, отдохни, Юрик. Дело пустяшное, все под рукой.
Зуб слышал, как за стариком затворилась дверь, и больше ничего не помнил. Прям сонная болезнь... А когда Семен Мироныч потряс его за плечо, Зуб встрепенулся, уверенный, что снова проверяют билеты.
— Вишь, сморило как, — сочувственно сказал старик. — Ну, видно, дала тебе жару дорога! Пойдем, Юрик, дошла наша банька. Вместе похлещемся. Ох, люблю ж я это дело!..
Он покопался в старинном комоде, бормоча о том, что хозяйка некстати загостилась, и вынул стопку белья. От сынов осталось — объяснил. Вышли в сени. Там Семен Мироныч снял с гвоздя березовый веник, тряхнул им.