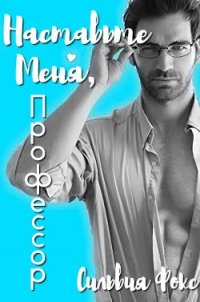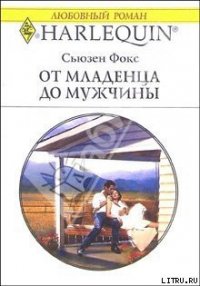Живи с молнией - Уилсон Митчел (книги без регистрации полные версии TXT) 📗
– Ушел! – сказал Хэвиленд. – Когда же это он успел?
– Я не видел, как он вышел. Он часто исчезает незаметно. Он такой застенчивый, что больно смотреть. – Хэвиленд взглянул на Эрика, словно заподозрив, что тот насмехается над ним. – Но когда дело касается физики, он становится безжалостным и к самому себе и к другим. И может черт знает как обидеть.
Хэвиленд криво усмехнулся.
– Охотно верю, – сказал он.
3
Когда Фабермахер вернулся в лабораторию, Хэвиленда уже не было. Фабермахер был очень недоволен собой. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь его выбранил, так как он чувствовал, что вел себя глупо.
– Он рассердился на меня, правда? – огорченно спросил Эрика Фабермахер.
Эрик рассмеялся.
– Нет, он не рассердился. В нем просто заговорила совесть. И это очень хорошо.
– Я глупо себя вел, – с трудом выговаривая слова, сказал Фабермахер. Он никак не мог приучиться думать на чужом языке. Кроме того, он был очень угнетен. – Ведь это меня вовсе не касается, – медленно продолжал Фабермахер. – То, что я требователен к себе, не дает мне права предъявлять такие же требования к другим.
– Почему?
– О, это наивный вопрос. Я могу спрашивать с себя больше, потому что я – сильнее других. – Он встретил вопросительный взгляд Эрика, но против обыкновения не покраснел и улыбнулся. – Это правда. Я умею смотреть на мир и на самого себя как бы со стороны, не обманываясь никакими иллюзиями. Это очень страшно, но если я хочу сделать то, что решил, я не должен оглядываться по сторонам. Понимаете, я должен закончить работу к тому времени, когда мне исполнится двадцать восемь лет. В крайнем случае – тридцать.
– А потом что?
– Буду отдыхать, – тихо сказал Фабермахер. Он хотел было иронически добавить: «И это будет вечный отдых», но сдержался.
В эту минуту Эрик вызывал в нем одновременно и щемящую жалость и резкое раздражение. Жалость, впрочем, скоро исчезла. Эрик, как большинство американцев, слишком сентиментально воспринял бы намек на неизбежность близкой смерти. В этом отношении американцы казались Фабермахеру сущими детьми, хотя в американских газетах ежедневно появлялись объявления, рекламирующие преимущества страхования жизни и поразительно элегантные гробы. Но жалость вытеснило более сильное чувство – раздражение, смешанное со страхом.
Наивность взрослых американцев производила на Фабермахера зловещее впечатление – казалось, будто их умы нарочно одурманивают некиим ядом. Когда американцы с ужасом и с некоторым самодовольством спрашивали его: «Как же немцы допустили, чтобы их так одурачили?», он всегда еле удерживался от искушения ответить: «А почему американцы думают, что они сделаны из другого теста?»
То, что с первого взгляда казалось присущей американцам наивностью, напоминало ему тупое безразличие, с которым коровы смотрят, как режут одну из них. И эта наивность, мало чем отличающаяся от бессердечия, была величайшей в мире жестокостью. В Америке это называется наивностью, в Европе – практичностью: что бы с тобой ни случилось, мне безразлично, раз это происходит не со мной, а со мной этого никогда не случится, потому что мне суждено во веки веков жить счастливо.
У Фабермахера постепенно появилась такая страстная ненависть к людям, что, когда ему случалось пройти по оживленной улице, он чувствовал себя потом совершенно измученным. Ужас перед людской массой был в нем так же силен, как и ненависть. Внешний мир – и в глухую ночь, и среди бела дня – казался ему джунглями, кишащими неведомыми существами, и не в переносном, а в самом прямом смысле. Его окружали двуногие звери в юбках или брюках, людоеды, которые с одинаковым удовольствием сами пожирают свои жертвы и смотрят, как другие пожирают себе подобных. Их пасти были постоянно окровавлены, но прожорливость все не уменьшалась. Фабермахер чувствовал, что звериная ненависть беспрестанно проступает сквозь поры их кожи, точно пот. В настоящих джунглях по крайней мере можно укрыться в чаще. Здесь, в городах, единственной защитой для него был он сам. Ему пришлось затаить свои страхи и ненависть под внешностью автомата с бесстрастным лицом, ходить, как все, – не показывая виду, что ноги его подгибаются от страха, а сам он в любую минуту готов обратиться в бегство, – и глазами, в которых нельзя было заметить возмущения, смотреть на совершающиеся вокруг зверства.
Единственным тихим пристанищем для него оказалось здание физического факультета. Тут, уйдя с головой в книги и идеи, он мог воспарить к таким высотам, куда ни одно человеческое существо не могло подняться, не оставив внизу все то, что делает людей отвратительными. Каждое утро он приходил сюда первым и направлялся прямо в библиотеку, отпирая ее собственным ключом. По вечерам, когда здание становилось безлюдным, он еще долго сидел один и в конце концов откладывал журнал или вычисления с чувством осужденного, покидающего камеру, чтобы идти на плаху. В течение последнего получаса в нем неизменно нарастал страх, и каждый вечер он переживал одну и ту же пытку.
Когда он выходил в темный пустой коридор и гулкие шаги отдавались в его сердце, ужас сковывал все его тело и превращал лицо в непроницаемую маску. Последняя ступенька – и он входил в притаившуюся ночь, обволакивавшую его холодной черной пеленой. Он шел с застывшим лицом, глядя прямо перед собой, и в этом была его маскировка. Он торопливо возвращался домой, в свою крохотную комнатенку, раздевался, не зажигая света, и бросался в постель. Маска медленно стаивала с его лица. Сердце еще некоторое время продолжало тяжко стучать, но постепенно он приходил в себя, и ум его снова воспарял к величавым вершинам абсолютного познания. Там, наверху, он свободно и без всякого страха бродил среди чистых созданий человеческого ума и своих собственных гипотез, и наконец к нему приходил сон.
За последние три года Фабермахер научился таить все свои мысли в себе. Он был вынужден отказаться от всякой личной жизни, чтобы какое-нибудь случайно вырвавшееся у него слово не послужило ключом к его душе, где бродили темные силы. Столько ужасов пришлось пережить ему за такое короткое время, столько убийств пришлось видеть и в довершение всего узнать о своем неизбежном и близком конце, что в сердце его скопилась неподвижная густая чернота. Так при получении некоторых сильных едких кислот на стенках сосуда создается изоляционный слой, нейтрализующий их разрушительное действие.
Постепенно Горин стал ему нравиться, хотя вначале Хьюго и ему не доверял. Он знал, что американец неспособен понять его. Если даже Горин узнает обо всем, что с ним случилось и что происходит сейчас, в течение каждой секунды, отмечаемой тиканьем часов, в каждой клетке его тела, то и тогда он не поймет его переживаний, и не из-за своей бесчувственности, а потому, что Горин обладает органическим оптимизмом человека, который еще не знал горя и которому ничто не угрожает. Между ними лежала огромная пропасть. Фабермахер это понимал. Врожденная доброта внушала ему желание уберечь Эрика, поэтому сейчас он сдержал горькие слова и перевел разговор на другое.
– Все оттого, что я очень нетерпелив, – пояснил он. – Из-за этого я, должно быть, говорю глупости.
– Ничего тут глупого нет, – ответил Эрик. – Я сам хочу поскорее кончить работу.
– Правда? – улыбнулся Фабермахер. – Какие же у вас на то причины? Впрочем, это не имеет значения, они, конечно, не менее важны, чем мои. Итак, мы с вами договорились о том, что цель у нас общая: опыт должен дать нам новые сведения.
– Все зависит от Хэвиленда. – Эрик подошел к столу и раздраженно забарабанил по нему пальцами. – Его никак нельзя заставить работать, разве только мы с вами сделаем так много, что ему волей-неволей придется довести дело до конца.
– Да, но, к сожалению, я плохой помощник.
– Вы можете помочь морально, – усмехнулся Эрик. – Знаете что, когда Хэвиленд придет, смотрите на него во все глаза. Уподобьтесь фурии и испепелите его своим убийственным взглядом.