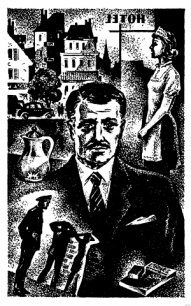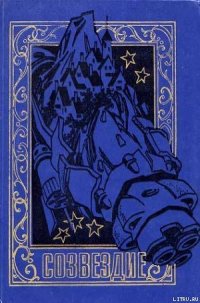Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей) - Вебер Виктор Анатольевич
Однажды вечером баронесса различила очевидные симптомы скорых родов — ожидая это событие, она все же глядела на его приближение не без тревоги. Торжественное и грозное, оно могло из-за ее неопытности превратиться в трагедию и привести к смерти. Тем не менее мадам де Ферьоль подготовилась к нему, усилием воли справившись с нервами. Боли у Ластении были такие, что прошедшие через это женщины обмануться не в состоянии. Ночью Ластения родила. Когда начались схватки, мадам де Ферьоль посоветовала: «Вцепитесь зубами в простыню и постарайтесь набраться мужества». Оказалось, что мужества Ластении не занимать. Она ни разу не издала крика, который, правда, все равно никого бы не насторожил в доме, где и ночь не прибавляла тишины, настолько безмолвно было здесь днем. Единственно, кто мог услышать Ластению, так это Агата, но она спала в другом конце замка, и крик в любом случае до нее бы не дошел. Мадам де Ферьоль все предусмотрела. Однако, несмотря на меры предосторожности, ей на мгновение сделалось страшно. Ее обуял ужас перед неизвестностью — безрассудное неверие. Баронесса знала, что кроме них двоих никого тут нет, и все же дерзнула с бьющимся сердцем пойти распахнуть дверь, дабы удостовериться, что там никто не стоит, и глянуть в коридорную темень. Ей мерещилась присевшая на корточки Агата. Невозможно было, чтобы кто-то оказался за дверью. И все-таки она пошла, хотя ей было жутко, как человеку суеверному, ждущему, что сейчас из зияющей черноты ночи вынырнет вдруг привидение. Здесь же вместо привидения могла быть Агата. Не в силах унять дрожь, мадам де Ферьоль широко раскрытым взором всмотрелась во тьму коридора, потом, бледная от непроизвольного страха, одолевающего и храбрецов, вернулась к кровати, где в судорогах извивалась дочь, и помогла ей разрешиться от бремени.
Ребенок, произведенный на свет Ластенией, несомненно исчерпал все страдания, которые он ей причинил, пока она его носила. Отлученный от матери, он умер. Ластения походила на мертвеца, выродившего другого мертвеца. Можно ли и правда назвать одушевленным то, что продолжало жить в этой безжизненной девушке? Мадам де Ферьоль, все время, пока они ехали в Олонд, упрекавшая себя в желании, чтобы из-за какого-нибудь несчастного случая на дороге случился выкидыш, который спас бы будущность дочери, не могла не почувствовать глубокой радости от этой смерти, в коей никто не был виновен. Она возблагодарила бога за гибель ребенка, которого в мыслях мрачно окрестила «Тристаном», и преклонилась перед провидением, забравшим его еще до рождения, словно оно хотело уберечь баронессу и ее дочь от нового стыда, новой скорби. Для мадам де Ферьоль это тоже было избавлением. Смерть избавляла ее от ребенка, которого пришлось бы скрывать, как она скрывала его, — но какой ценой! — когда он был в чреве ее дочери, ребенка, который, будучи жив, покрыл бы лицо Ластении краской стыда, какую незаконнорожденные дети налагают на щеки матерей, подобно пощечине палача.
Однако жестокость не оставляла ее и в радости. Отторгнув ребенка от матери, она обратила его к Ластении:
— Гляди, тут твое преступление, но и твое искупление.
Ластения подняла мертвый взор на мертвого ребенка и, не выдержав, содрогнулась всем телом.
— Он счастливее меня, — только и прошептала она, в то время как баронесса, зорко вглядываясь в ее лицо, удивлялась, что, вопреки ожиданиям, оно не выражает нежности. Мать увидела на нем лишь выражение ужаса, извечного ужаса, столь привычное для Ластении, — от этого ужаса, казалось, ей теперь не уйти. Мадам де Ферьоль, женщина страстная, любившая — и какой любовью! — своего мужа, не усмотрела на этом изможденном от слез лице ни следа того, что все объясняет и оправдывает, — любви. Она бессознательно рассчитывала на эту решающую минуту родов, когда из материнского самопожертвования она сделается акушеркой у собственной дочери, чтобы об утере девственности знали только они двое и бог. Приходилось, однако, отказываться от надежды на последний луч света, способный проникнуть в тайну дочерней души. Луч надежды потух, когда Ластения разрешилась ребенком, не имевшим отца. В этот же час зловещей ночи — мадам де Ферьоль никогда не забудет, что ей довелось тогда испытать, — было, разумеется, в мире много счастливых женщин, рожавших живых младенцев — плоды разделенной любви, — которые выбирались из утробы матери на руки отцов, ошалевших от любви и гордости. Была ли среди них хоть одна, судьбой походившая на Ластению, — кого ночь, страх, смерть окутывали тройной тьмой, чтобы навсегда утаить не получившее имени дитя, о котором повествует наша печальная история.
Ночь — мрачная долгая ночь, — открытая тревогам, неотступным тревогам, не кончилась для мадам де Ферьоль. Новая забота предстала перед ней. Ребенок родился мертвым, слава богу, хотя это и ужасно. Но труп? Что делать с трупом, последним доказательством дочерней вины?
Как от него избавиться? Как стереть последний след постыдного поступка, чтобы для всех остальных он канул в небытие? Баронессе приходила на ум одна мысль, но эта мысль ее путала. Недаром, однако, она была нормандкой, потомком героев. Сердце баронессы могло разрываться или учащенно биться от страха, но она обладала властью над своим сердцем, — она всегда, пусть внутренне содрогаясь, делала все как надо, сохраняя при этом внешнюю бесстрастность. Когда Ластения погрузилась в сон, как погружаются в сон все роженицы, мадам де Ферьоль взяла мертвого младенца и, завернув его в одну из пеленок, которые сама сшила в долгие часы безмолвного сидения рядом с дочерью, — у той никогда не хватало сил для работы — вынесла из комнаты, позаботившись, чтобы дверь осталась запертой на ключ на время ее отсутствия. Она не знала, проснется ли Ластения, но железная рука необходимости повлекла ее, заставив пренебречь такой возможностью. Баронесса зажгла потайной фонарь и спустилась в сад, где, как она помнила, стоял забытый в углу старый заступ; именно этим заступом она имела мужество выкопать могилу для ребенка, в чьей смерти не было ее вины. Мадам де Ферьоль, некогда столь гордая, а теперь набожная и глубоко смиренная, похоронила его своими руками. Втайне копая в эту черную ночь роковую яму под всевидящими звездами, не способными ее выдать, она не могла не думать о детоубийцах, которые — не исключено, что в эту минуту, — где-нибудь совершают то, что под звездным небом ночной порой совершает она…
«Я хороню его, как если бы сама убила», — думала мадам де Ферьоль, и ей приходила на память жуткая история, которую она когда-то слышала, — о юной семнадцатилетней служанке, которая, родив ночью и задушив ребенка, утром (в воскресенье, день, когда она имела обыкновение ходить к мессе!) засунула его в карман юбки, продержала там во время всей мессы, а потом, на обратной дороге, бросила под арку пустынного моста, где никто не ходил… Эта мерзкая история преследовала, мучила мадам де Ферьоль. В ее жилах леденела кровь; дрожа, словно она была в чем-то виновата, баронесса утаптывала, уминала землю, наваленную на того, кто мог быть ее внуком; убедившись, что никаких следов могилы не видно, мадам де Ферьоль — вся бледная, как после совершенного преступления, хотя ничего такого на ее совести не было, — вернулась в комнату, где еще спала Ластения. Проснулась она в отупении, как любая роженица после тяжелых родов, и не выразила желания увидеть мертвого ребенка, которого произвела на свет. Можно было подумать, что она его уже забыла… Это заставило призадуматься мадам де Ферьоль, которая тоже молчала о ребенке в ожидании, что дочь заговорит о нем первая. Но — вещь странная, если не чудовищная, — та не заговорила… и никогда потом о нем не вспоминала. Неужели не хватало нежной Ластении, некогда столь пленительной, материнского чувства, без которого немыслима женщина; даже подвергнутые насилию женщины, разве они не любят, не оплакивают мертвое дитя? Ни в эту ночь, ни в последующие Ластения не вышла из молчаливого состояния апатии. Слезы по-прежнему текли по ее лицу, уже испещренному морщинками, и облик ее казался прежним, тем же, что и в последние шесть месяцев.