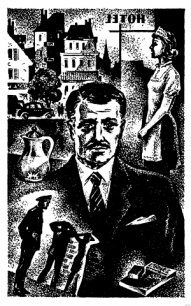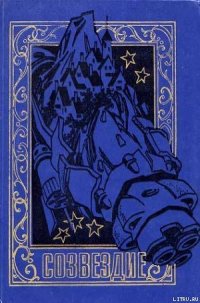Святая ночь (Сборник повестей и рассказов зарубежных писателей) - Вебер Виктор Анатольевич
Увы, обе они уже были равнодушны к красотам природы, обе лишились человеческих чувств в прямом смысле слова и со страхом это осознавали. Они еще любили друг друга, но ненависть — безотчетная ненависть — начала ядом просачиваться в загнанную вглубь, не имеющую выхода любовь, ожесточая и губя их, подобно тому, как отрава губит источник. Во власти этих противоестественных настроений, мадам де Ферьоль с дочерью обосновались в олондском замке, своем прибежище, со слепой беспечностью существ, не обремененных материальными заботами. Эту сторону их жизни обеспечивала Агата. Новые впечатления, самый вид родных мест, казалось, возвратили старой женщине молодость, и она с упоением вдыхала пропитанный любовью воздух своей страны — Агата справлялась со всем, избавляя дам де Ферьоль от всякого труда. Она составляла единственную компанию матери с дочерью, которые прибыли в замок, никого не предупредив, и не хотели никого видеть. Одними своими силами Агата превратила в жилое помещение, напоминавшее ей о юности, старый полуразрушенный замок, обитателей которого она знала как свои пять пальцев. Жалюзи она не открыла, но приотворила окна за почерневшими от времени, ржавыми ставнями, чтобы немного проветрить комнаты, пропахшие, как она говорила, «затлахом», — так в этих краях называли запах от плесени, появляющейся в сырых местах. Она выбила и протерла мебель, которая скрипела и разваливалась от дряхлости. Она вынула из шкафов груды пожелтелого за много лет белья, застелила кровати, предварительно согрев простыни, чтобы они, подобно всем старым простыням, долго находившимся в сложенном виде в шкафу, не напоминали телу о склепе. Несмотря на возвращение хозяев, внешний вид замка не изменился. Проходившим мимо крестьянам, которые и глядеть на него не глядели, словно замка не было вовсе, казалось, что в нем по-прежнему нет ни души. Замок, который они всегда видели на одном и том же месте со своими ставнями, заколоченными крест-накрест окнами, имел какой-то отлученный вид, как они говорили, употребляя церковное выражение из старых времен, глубокое и зловещее. Привычка видеть именно такой странную громадину запущенного замка, наводящего на мысль о смерти, притупила их восприятие.
Олондские фермеры жили достаточно далеко от жилища хозяев, чтобы остаться в неведении о том, что происходило в замке после тайного приезда дам де Ферьоль. Агата, которой было сорок лет, когда она исчезла вместе с похищенной мадемуазель д’Олонд, за двадцать лет отсутствия так изменилась, что никто уже не помнил ее и не узнавал, когда по субботам она приходила за провизией на окрестные базары. Просто появилась еще одна старая крестьянка, которая платила за продукты наличными и в одиночестве брела обратно по олондской дороге, не обмолвившись ни с кем ни единым словом… У нормандских крестьян так заведено: если сам ты молчишь, то и с тобой не заговорят. Они недоверчивы и открываются, лишь когда видят, что к ним делают первый шаг. За недолгое время, протекшее до развязки нашей истории, Агата не встретила в этом краю, где каждый занят лишь своими делами, ни одного любопытного, который стал бы приставать к ней с вопросами. Путь в Олонд почти всегда был пустынным, потому что замок стоял довольно далеко от дороги на Донневиль и Сен-Жермен-сюр-Эй. В замок Агата входила не через большую ржавую решетку внутренней ограды, полностью заслоняющей большой двор, а через низкую дверцу, скрытую за утлом садовой стены с обратной стороны дома. Перед тем, как вставить ключ в замок, благоразумная служанка, словно воришка, осматривалась крутом, но это было лишней предосторожностью: никогда на этих изрытых дорогах, где повозки по ось опускались в рытвины, она не видела ничего подозрительного.
Как она себе и обещала, мадам де Ферьоль зажила здесь еще уединеннее, чем в Форезе, буквально заточив себя в замке. Всегда дрожавшая перед матерью, послушная Ластения, которая с детства подчинялась любым ее решениям, теперь полностью деморализованная и упавшая духом, не воспротивилась одиночеству, на которое ее обрекала воля мадам де Ферьоль. Понятие чести, как ее понимает свет, меньше, чем мать, занимало несведущую ослабевшую девушку. Смоченная столькими слезами, ее душа стала мягкой глиной под суровыми руками матери-скульптора, перед которыми не устоял бы и мрамор. Агату, фанатически преданную Ластении и по-прежнему верящую в незапятнанную чистоту своей воспитанницы, это необычное таинственное одиночество не удивило. Она просто-напросто думала, будто мадам де Ферьоль захотела скрыть состояние Ластении, чтобы на родине баронессы не видели ее дочь такой изможденной и чтобы не сказали: «Вот что выгадала, вот с чем осталась мадемуазель д’Олонд после скандального похищения». И потом, Агата держала в голове чудодейственное средство для исцеления Ластении — обдуманный план паломничества к гробнице блаженного Томаса де Бивиля, а если блаженный не услышит ее молитв, то и план изгнания злого духа. Такова была последняя надежда Агаты, полной простодушной веры, — впрочем, вера всегда простодушна. Мадам де Ферьоль не встретила ни препятствий, ни возражений со стороны дочери и старой служанки, без которой она не смогла бы устроить себе такое затворничество. Олонд и вправду походил на монастырь — монастырь для троих, — но без часовни, без богослужения, и это вызывало у мадам де Ферьоль новые огорчения и угрызения совести. Ей даже под вуалью нельзя было сходить на обедню в приходскую церковь по соседству: и на минуту опасно было оставлять Ластению одну в последний месяц ожиданий и волнений.
«Из-за нее приходится пренебрегать своим религиозным долгом», — с ожесточением думала мадам де Ферьоль, а ведь долг довлел над этой янсенисткой больше, чем над кем-либо еще. «Она погубит нас обеих», — в запальчивости сурово добавляла баронесса. Постичь, как в глубине души страдает эта стойкая женщина, мог бы только тот, кто разделяет ее религиозные чувства. Есть ли такие люди? Маловероятно. Жилище, которое из-за его уединенности я сравнил с глухим сумрачным монастырем без монашек и часовни, скорее напоминало об удушливой тесноте кареты, во время путешествия казавшейся им гробом. К счастью (если подобное выражение уместно в столь горестной истории), замок-гроб был достаточно обширным и в нем можно было дышать хотя бы в прямом смысле слова. Достаточно высоки были и стены сада, и две затворницы могли незамеченными пройтись по нему, чтобы уж совсем не отдать богу душу от сидения на одном месте, как из ревности запертая Филиппом Вторым в комнате с зарешеченными окнами в четырнадцать месяцев умерла от одиночества деятельная принцесса д’Эболи, дышавшая тем же воздухом, который сама выдыхала: какая ужасная мука— умирать от удушья.
Однако через несколько дней Ластения перестала спускаться в сад. Она предпочитала лежать в своей комнате на шезлонге, который ночью занимала мать, — та всегда была тут, рядом, словно тюремщик, и даже хуже, чем тюремщик, потому что в тюрьме тюремщик не всегда рядом, а мать не отходила от нее, вечно бдящая, молчаливая, неумолимая в своем упорном молчании. Мадам де Ферьоль приняла решение, свидетельствующее о твердости ее характера. Она больше не разговаривала с Ластенией, ни в чем ее больше не упрекала. Баронесса, такая сильная, признала, что не может одолеть свою слабую дочь, и сила мадам де Ферьоль обратилась теперь на нее саму. Увы, молчание, и так всю жизнь тяготевшее над двумя женщинами, стало еще полнее. Теперь это было молчание двух мертвецов, заключенных в одном гробу, но мертвецов, не умерших, видящих друг друга, касающихся друг друга, — потому что доски сжимают их со всех сторон, — погруженных в вечное молчание. Похоронное молчание было для них самой невыносимой мукой…
Вопреки словам мистика Сен-Мартена, не молитвой дышит человеческая душа, дыханием ей служит речь, причем вся речь целиком, независимо от того, выражает она ненависть или любовь, проклинает или благословляет, молится или богохульствует. Потому обречь себя на молчание значит приговорить себя к удушению, хотя бы и не приводящему к смерти. Они и приговорили себя, сознательно, впав в отчаяние. Их обоюдное молчание было палачом для каждой. Мадам де Ферьоль, чью глубокую веру ничто не могло подорвать, хоть говорила с богом — вставала на колени в присутствии дочери и тихо молилась. Ластения же не молилась, не разговаривала больше с богом, как и с матерью, и даже улыбалась нехорошей, чуть презрительной улыбкой, глядя, как та, коленопреклоненная, читает молитвы около ее кровати. Для Ластении, придавленной судьбой, не было ни божественной, ни человеческой справедливости, раз не справедлива к ней мать. Ах, из двоих несчастнее всегда оказывалась Ластения. Агата, которую мадам де Ферьоль всегда держала на расстоянии, не осмеливалась приходить работать в комнату, где царило молчание; хотя Агата убивалась в душе из-за состояния Ластении, она в эти дни была занята тем, что входила во владение вещами, которые окружали ее в замке, где она провела юные годы, и которые, как Агата выражалась, «знали все». Она ходила по саду, около колодца, везде в одиночестве занималась хозяйством, о котором мадам де Ферьоль, по-видимому, и думать забыла. Без Агаты, кормившей их, как кормят детей или сумасшедших, они бы умерли с голоду, все во власти их снедавших мыслей.