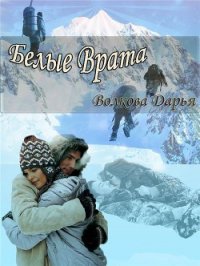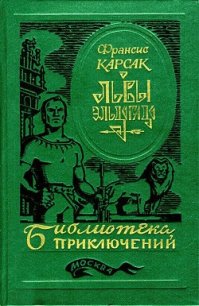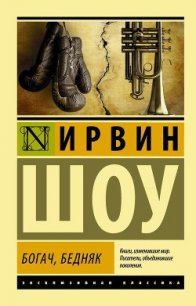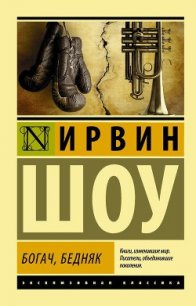Молодые львы - Шоу Ирвин (читаем книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
– Поторопись, боже, – заговорил Джекоб, открывая глаза. – Поспеши, владыко, взять меня. Подай мне руку помощи…
Это была еще одна привычка отца, всегда приводившая Ноя в бешенство. Джекоб знал библию наизусть и по-еврейски и по-английски и, хотя не верил ни в бога, ни в черта, постоянно уснащал свою речь длинными и напыщенными библейскими цитатами.
– Освободи меня, мой владыка, из рук нечестивых, неправых и злых. – Джекоб отвернулся к стене и снова закрыл глаза.
Ной встал со стула, подошел к кровати и плотнее укутал отца одеялами. Джекоб, казалось, даже не заметил этого. Ной посмотрел на отца, прислушался к его тяжелому дыханию и отошел. Он распахнул окно и жадно вдохнул сырой, пропитанный острым запахом моря воздух. Между раскидистыми пальмами на бешеной скорости промчалась машина, приветствуя праздник гудками сирены, но уже через мгновение и сама машина, и ее гудки потонули в тумане.
«Ну и местечко! – совсем некстати промелькнуло у Ноя. – Как это люди могут праздновать здесь наступление Нового года!» Он поежился от холода, но оставил окно открытым.
Ной работал клерком на заказах в одной из посылочных фирм, Чикаго. Самому себе он честно признавался, что был рад предлогу съездить в Калифорнию, хотя бы даже для того, чтобы присутствовать при смерти отца. Обласканный солнцем берег, раскаленный песок пляжей, сады, где деревья купаются в ярком солнечном свете, хорошенькие девушки…
Ной посмотрел вокруг и мрачно улыбнулся. Целую неделю шел дождь. А отец бесконечно затягивал свое пребывание на смертном ложе. У Ноя оставалось всего семь долларов, к тому же, как он узнал, кредиторы уже наложили арест на фотоателье отца. Даже в лучшем случае, если удастся все распродать по наивысшим ценам, они смогут получить лишь центов по тридцать за доллар. Ной побывал у маленькой, запущенной студии недалеко от берега океана и заглянул внутрь через закрытую на замок застекленную дверь. Его отец специализировался на художественных, щедро подретушированных портретах молодых женщин. Через грязное, давно не протиравшееся стекло на Ноя смотрели томные, густо подведенные глаза бесчисленных местных красоток, задрапированных в черный бархат, с эффектно освещенными лицами. Подобные ателье отец открывал то в одном конце страны, то в другом, и его профессия преждевременно свела в могилу мать Ноя. Такие ателье часто появляются во время сезона в жалких домишках приморских городков. Кое-как просуществовав несколько месяцев, они исчезают, оставив после себя лишь рваные бухгалтерские книги, долги да груды выцветших фотографий и рекламных листовок – весь тот мусор, который потом сжигают на заднем дворе новые арендаторы.
За свою жизнь Джекоб перепробовал много профессий. Он торговал местами для могил на кладбищах и противозачаточными средствами, земельными участками и священным вином, подержанной мебелью и свадебными нарядами; доводилось ему и собирать объявления, а одно время он даже содержал лавочку для матросов в Балтиморском порту. Но ни одно из этих занятий не давало ему средств для безбедного существования. И все же, благодаря хорошо подвешенному языку, с которого так и сыпались библейские изречения, благодаря своему старомодному красноречию, а также выразительному, красивому лицу и бьющей через край энергии, он всегда ухитрялся находить женщин, и они восполняли разницу между тем, что Джекоб добывал в поте лица своего в борьбе за существование, и тем, что ему в действительности требовалось на жизнь. Его единственный ребенок Ной был вынужден вести бродячую, беспорядочную жизнь. Он часто оставался один, то подолгу, жил у каких-то дальних родственников, то, преследуемый и одинокий, прозябал в захудалых школах-интернатах.
– Язычники сжигают в печи брата моего Израиля…
Ной вздохнул и открыл окно. Джекоб лежал, вытянувшись во весь рост, и широко раскрытыми глазами смотрел в потолок. Ной зажег единственную лампочку, прикрытую розовой, местами прогоревшей бумагой, и в пропахшей лекарствами комнате появился легкий запах гари.
– Я могу тебе чем-нибудь помочь, отец? – спросил Ной.
– Я вижу языки пламени, – ответил Джекоб. – Я чувствую запах горящего мяса. Я вижу, как трещат в огне кости брата. Я покинул его, и сегодня он умирает среди иноверцев.
Ной снова почувствовал прилив раздражения. Джекоб не видел своего брата тридцать пять лет. Уезжая в Америку, он оставил его в России помогать отцу и матери. Из разговоров отца Ной знал, что он презирал своего брата и что они расстались врагами. Однако года два назад отец каким-то путем получил от брата письмо из Гамбурга, куда тот перебрался в 1919 году. Это было отчаянное письмо, настоящий вопль о помощи. Ной должен был признать, что отец сделал все возможное, – без конца писал в бюро по делам иммигрантов и даже побывал в Вашингтоне. Старомодный, бородатый, не то раввин, не то шулер с речных пароходов, он, как видение, появлялся в коридорах государственного департамента и вел разговоры со сладкоречивыми, но неотзывчивыми молодыми людьми – воспитанниками Принстонского и Гарвардского университетов, рассеянно, с презрительным видом перебиравшими бумаги на своих полированных столах. Так ничего у него и не вышло. После единственного отчаянного призыва о помощи наступило зловещее молчание. Немецкие чиновники не отвечали на запросы. Джекоб вернулся в залитую солнцем Санта-Монику к своей фотостудии и дебелой вдовушке миссис Мортон. О брате он больше не вспоминал. И вот сегодня вечером, когда за окнами колыхался окрашенный багровыми отблесками туман, когда близился конец старого года, а вместе с ним и его собственный конец, Джекоб снова вспомнил о своем покинутом и застигнутом столпотворением в Европе брате, и его пронзительный вопль о помощи вновь прозвучал в затуманенном сознании умирающего.
– Плоть, – заговорил Джекоб раскатистым и сильным даже на смертном одре голосом, – плоть от плоти моей, кость от кости моей, ты несешь наказание за грехи тела моего и души моей.
«О боже мой! – мысленно воскликнул Ной, взглянув на отца. – И почему он всегда должен разговаривать белыми стихами, как мифический пастырь, диктующий стенографистке на холмах иудейских?»
– Не улыбайся. – Джекоб пристально смотрел на сына, и его глаза в темных впадинах были удивительно блестящими и понимающими. – Не улыбайся, сын мой. Мой брат за тебя сгорает на костре.
– Да я и не думаю улыбаться, – успокоил Ной отца и положил ему руку на лоб. Кожа у Джекоба была горячая и шершавая, и Ной почувствовал, как легкая судорога отвращения свела его пальцы.
Лицо Джекоба исказилось презрительной гримасой присяжного оратора.
– Вот ты стоишь здесь, в своем дешевом американском костюме, и думаешь: «Да какое отношение имеет ко мне брат отца? Он для меня посторонний человек. Я никогда его не видел, и что мне до того, что он умирает в пекле Европы! В мире ежеминутно кто-нибудь умирает». Но он вовсе не посторонний тебе. Он всеми гонимый еврей, как и ты.
Джекоб в изнеможении закрыл глаза, и Ной подумал: «Если бы отец говорил простым, нормальным языком, это трогало бы и волновало. Кого, в самом деле, не тронул бы вид умирающего отца, такого одинокого в последние минуты своей жизни, терзаемого думами о брате, убитом за пять тысяч миль отсюда, скорбящего о трагической судьбе своего народа». И хотя Ной не воспринимал смерть своего неведомого дяди как личную трагедию, тем не менее, будучи здравомыслящим человеком, он не мог не чувствовать, как давит на него все то, что происходит в Европе. Но ему так часто приходилось выслушивать разглагольствования отца, так часто приходилось наблюдать его театральные, рассчитанные на внешний эффект манеры, что теперь никакие ухищрения старика не могли бы его растрогать. И стоя сейчас у его постели, всматриваясь в посеревшее лицо и прислушиваясь к неровному дыханию, он думал лишь об одном: «Боже милосердный! Неужели отец будет играть до последнего своего вздоха!»
– В тысяча девятьсот третьем году, – заговорил отец, не открывая глаз – при расставании в Одессе Израиль дал мне восемнадцать рублей и сказал: «Ты ни на что не годен, с чем тебя и поздравляю. Послушайся моего совета: всегда и во всем полагайся на женщин. Америка в этом отношении не исключение – женщины там такие же идиотки, как и повсюду, и они будут содержать тебя». Он не пожал мне руки, и я уехал. А ведь он, несмотря ни на что, должен бы пожать мне руку, ведь правда, Ной?