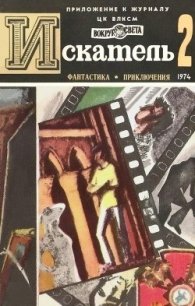Петля и камень в зеленой траве. Евангелие от палача - Вайнер Аркадий Александрович
– А как?
– Да на министра-литовца компромат подобрали – и в Москву! Он и полетел, потом пердел и радовался, что жив остался. Назначили потом Ляудиса – тоже литовец, но такой – совершенно наш, и русских больше не трогал, понимал, что их кадры для понта держим. А решаем – мы! Мы здесь кровь проливали, мы и музыку заказывать будем…
Недоучел вождь, что в народном государстве к управлению привлекут не только кухарок, но и шоферов-телохранителей.
– А ты еще служишь, Паш?
– Окстись! Куда мне! У меня давно полная пенсия. Нам же ведь – офицерам – засчитали борьбу с бандитизмом как фронт – год за три. Нет, я уже давно гражданский человек…
– Дома сидишь, хозяйствуешь?
– Почему дома? Работаю. Я на киностудии – в отделе кадров. Непыльная работа, но ответственная.
– А чего там ответственного? – засмеялся я.
– Э, Леха, ты ведь не помнишь уже, пацанчик был. Ты и не представляешь, чего здесь творилось. Тяжелый народ, неприятный. Это у них у всех только вид такой дураковатый, а сами, гады, камень за пазухой держат. – И он поколотил себя по твердой глыбе живота. – Знал бы ты, сколько они тут кровушки пролили нашей. Такой занюханный дикий засранец, мужик мужиком, в избе пол земляной, блохи заедают, сам – в чем душа держится, а как ночь – так в лес, с заветной сосенки автомат снимает и у дороги караулит до утра, пока кого-нибудь не подшибет. Мы на них специально надроченных псов исковых пускали…
Он усаживал меня в большой белокафельной кухне за стол, объяснял, что жена Лидка скоро подойдет, обед нам подаст, а пока закусим салом и капустой, самогоночка сахарная собственного изготовления – как слеза.
– Мы здесь все самогонку гоним. Не в магазине же по таким диким деньгам покупать! А мы ее из сахара, рубль литр обходится, фильтруем, марганцовкой очищаем, на ягодах, на травках целебных настаиваем. Литр хлобыснешь – как Христос в лапоточках прошел. А литовцы, дурачье, пьют магазинную, нефтяную, по четыре рубля. Боятся гнать, говноеды – что такое тюрьма, хорошо знают! Этому мы их до смерти научили, внуки помнить будут. Ну давай, рванем по первой. За встречу долгожданную!
Рванули по толстому граненому стаканчику. Птицей самогон полетел, душистый, прозрачный, как слеза. Литовская.
Хрумкая розовым, толщиной в ладонь салом, Пашка сказал:
– Но пока научили – трудно было, пришлось нам с ними всерьез повозиться. Ты-то малой еще был, тебе, наверное, и не рассказывали, как на нас с твоим батькой под Алитусом бандиты напали. Может, случайно, а может, кто-то из наших же литовцев стукнул им, что поедет генерал. Это перед выборами в Верховный Совет в сорок шестом году было. Ну и возложили тогда на нас обязанность обеспечить, чтобы не мешали бандиты народу голосовать за свою власть. Дело серьезное, сам понимаешь, – первые выборы после войны. А как тут обеспечишь, когда они бандиты – и в лесу, и по хуторам, и в городишках, и активисты, и избиратели. Все прикидываются казанскими сиротами, ничего, мол, не понимаем, ничего не видели, ничего не знаем. Там, где избирательные участки, – конечно, по взводу войск поставили, а к каждому литовцу солдата ведь не поставишь, чтобы он себя вел по-людски. Ну и мотались мы с батькой по всей республике… Давай выпьем за Захара Антоныча, дай Бог здоровья, замечательный человек.
Выпили мы сахарного самогончика, который раз и навсегда отучил пить литовцев замечательный человек – мой батька Захар Антоныч.
– Вот они нас под Алитусом прихватили – деревьями дорогу завалили, и давай жарить по нам из обрезов. Мы за машиной залегли – и по ним из автоматов. На счастье, догнал нас бронетранспортер из райотдела. Как врезал по ним из крупнокалиберного! Собаки след взяли и на хутор в шести километрах вывели. Сидят тифозники за столом, суп свой картофельный хлебают, делают вид, что они не имеют к этому отношения. Ну, мы взяли и тут же семь мужиков повесили. А всех остальных в лагерь…
– И ты вешал? – спросил я с интересом.
– У них там турник был железный – вот мы их на нем, как тарань, и завесили. Да повешение – это легкая смерть. Как повис, так и дух вон. Это для остальных страшно, как он ногами скребет, пену из себя гонит. Да он-то все равно без сознания. Ну а зрителям, конечно, страшновато: думают, он мучается так. А ему – уже все до феньки. Я тогда еще сказал твоему батьке – давайте загоним их в дом, сожжем сук этих дешевых к едрене-фене, запомнят тогда крепче. Но не разрешил батька – все, говорит, должно быть по закону…
– По какому же закону? Может быть, это и не они в вас стреляли? И повесили их вы без суда! Какой же здесь закон?
Изумленно вытаращил Пашка на меня свои блекло-голубые веселые глазки и от души захохотал:
– Закон! За-кон! Твой батька и был тогда закон! Закон, суд и Господня воля! А кроме того, если эти самые не стреляли, значит стреляли их братья, сватья или сыновья! А эти бы ночью пошли стрелять! Да и вообще, Алеха, поверь мне: людишек чтобы правильно воспитывать, нужен не закон, а скорее наказание. Бей люто правого, виноватые сильней бояться будут. Ладно, черт с ними. Все это уже давно утекло, мы им тогда злостный их хребет переломали. Давай выпьем…
– Давай. Давай, Пашка, выпьем, чтобы все виноватые были когда-то наказаны!..
– С удовольствием, Леха! Пусть всем этим недобиткам еще икнется! Молодец, хорошо пьешь! Батькина выучка – тот литр мог заложить и – ни в одном глазу…
Ах, как пошел сахарный самогон – дым в глазах! Господи, накажи недобитков за безвинно пролитые моря крови, за погубленную, измордованную, изнасилованную жизнь. Прости меня, Альгис, за сломанный ваш хребет. Простите меня, семь повешенных литовских хуторян. Простите меня, убитые братья, сватья, сыновья.
Ой, Боже мой, как мне тяжело – лучше бы вы тогда попали из своих обрезов…
– Я, Алеха, человек уже немолодой и скажу тебе серьезно – береги ты своих стариков – всем ты им в жизни обязан, других таких не будет. Береги, ублажай, потакай глупостям каким от старости. Тяжело твоему батьке жить сейчас – никто его жизни нынче не оценит, никто не вспомнит, сколько он для советской власти сделал! При Хрущеве заплевали совсем было нашу работу, должность нашу чекистскую высокую, да вот видишь – не выгорело у них ни хрена. Без нас власть дня не жила, сейчас не живет и в будущем не проживет. Как ни крути, а ты – соль этой земли. Так и будет во веки веков! А те, что нынче сидят на наших местах, – только злее да жаднее, а мастерства нашего да беззаветной преданности им не хватает, вот и не хотят признать нас снова, от хрущевского блуда отказаться. Да никуда не денешься – их жизнь заставит…
– Да, таких спецов, как ты, или там Михайлович рыжий, сейчас не сыщешь, – сказал я ему. Искренне, от души сказал – он понял наш исторический момент совершенно правильно.
– Михайлович? – прищурился он, вспоминая.
– Ну помнишь, ты его возил, рыжеватый, с длинным усом на щеке, – напомнил я и скинул единственного козыря из жидкой колоды. – Насчет Минска он ездил…
– А-а-а! Конечно помню! Ух, огневой еврей был! – Пашка, видимо, устав ждать жену, налил еще по стаканчику, а сам встал к плите, вышиб на сковородку дюжину яиц и, помешивая яичницу, тоненько напевал: – Огурчики – помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике…
– Почему – «был», – заметил я равнодушно. – Михайлович по сей день жив-здоров. И сейчас работает…
– Во дает! – восхитился Пашка. – А че делает?
– Евреями недовольными занимается, – усмехнулся я. – Он ведь по этому делу специалист…
– Он по любому мокрому делу специалист! – заржал Гарнизонов, снял с плиты яичницу и стал разбрасывать ее нам по тарелкам.
Я задержал дыхание, собрался, сказал как можно спокойнее, увереннее:
– Я уж мелочи всякие подзабыл, но, помнится, это он тогда лихо управился с Михоэлсом.
Гарнизонов набил рот яичницей, помотал башкой, круто сглотнул – так что слезы выступили, запальчиво сказал:
– Не он один! Да и задача у нас была пустяковая – прикрывали. Нам чужих подвигов не надо – свои имеются…