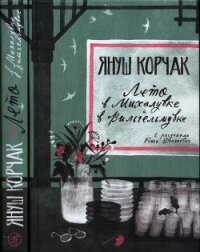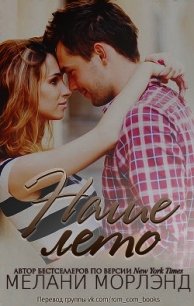Остенде. 1936 год: лето дружбы и печали. Последнее безмятежное лето перед Второй мировой - Вайдерманн Фолькер
Он так и не закончит эту книгу. Его положение в последние месяцы стало аховым. Авансы, которые он получил за несколько романов, давно истрачены; издатели-мигранты, постоянно находившиеся на грани банкротства, денег ему больше не ссужали, требуя завершенную книгу. Один роман, «Исповедь убийцы», близился к концу; второй, «Неправильный вес», написан до половины, и он спешит, спешит. Чтобы скорее закончить его, он вставляет фрагменты из «земляничного» романа. Он осознает, что это никуда не годится. И Цвейг, безмерно восхищавшийся им, тоже предупреждал его в своих письмах: не следует «набивать» романы. Именно это и испортило его последний роман [23]. Но что он мог сделать? Денег-то не было.
Стефан Цвейг из своего далека взывал к разуму Рота, призывал его экономить, меньше пить, не останавливаться в самых дорогих отелях. В конце марта он советовал ему: «Наберись наконец мужества и признай, что, как ни велик твой писательский дар, ты в сущности – маленький бедный еврей, почти такой же бедный, как семь миллионов других, и надобно жить, как живут на земле девять десятых человечества, в своем маленьком и тесном мирке». Это письмо едва не положило конец их дружбе. Йозеф Рот был глубоко оскорблен. Цвейг попал не в бровь, а в глаз, он раскрыл перед ним пропасть, которая незримо зияла между ассимилированным, богатым от рождения западным евреем и бедным восточным евреем с задворок монархии. Это была самозащита. Цвейг понимал, что не может помочь Роту, что сколько бы денег он ему ни давал, тот лишь все глубже будет погружаться в омут, поэтому и пил все больше и больше, постепенно теряя благоразумие, а вместе с ним и свое мастерство. «Кому-кому, а мне не нужно рассказывать, что такое бедный маленький еврей, – ответил Рот. – Я таковой с 1894 года и горжусь этим. Ортодоксальный восточный еврей из вотчины Радзивиллов. Так что оставьте! Я бедный и маленький уже тридцать лет. Да, я бедный».
Рот бранился, бесился и умолял Цвейга приехать. «Я вот-вот околею!» – кричал он. И девятого апреля: «Дорогой друг, если вы хотите приехать, поторопитесь, пока еще то, что от меня осталось, способно радоваться». Положение было критическое, и Рот усиленно драматизировал его в письмах другу. Цвейг уклонялся как мог. В Амстердам, мол, летает только немецкая Lufthansa, а он не желает ею летать. В то же время он признавался своему американскому издателю Бену Хюбшу, что его пугает встреча с Ротом. Сколько лет уже он твердит ему, чтобы он перестал транжирить и пропивать свой литературный талант. Ничто не помогает и не поможет. «Разве что посадить его в тюрьму на два-три месяца за какой-нибудь мелкий проступок, другого способа заставить его не пить, пожалуй, нет». И присовокупил слова, которые станут фатальными для Рота: «…Из-за этого вздорного образа жизни в конечном счете пострадают его книги».
Цвейг, конечно, прав. Американский рынок – единственный финансовый якорь спасения для немецкоязычных писателей, а издатель Хюбш всесильный.
Цвейг писал другу: «Рот, возьмите себя в руки, вы нам нужны. В этом перенаселенном мире так мало людей, так мало книг!» Но Рот видел его насквозь. Хороший психолог и внимательный читатель, он знал, что Цвейг не хочет приезжать, не хочет его видеть. И расписание самолетов он тоже знал: «Неправда, что сюда летают только немецкие самолеты. У Lufthansa лишь один рейс – в 6 утра. Но есть и голландские рейсы: в 7 утра, в 10, 12, 14.10, 15, 19.45. Но вы просто не хотите приехать, так не лучше ли прямо об этом сказать». И да, он возьмет себя в руки, пусть Цвейг об этом не беспокоится. Изо дня в день он берет себя в руки, никто столько еще не держал себя в руках, как он, день за днем. «Каждый день я пишу, чтобы затеряться в чужих судьбах. Разве вы не видите, мой собрат, мой друг и брат – ведь вы однажды назвали меня в письме братом, – что мне скоро каюк?»
Это была отчаянная воздушная схватка двух писателей. Воздушные шахматы между друзьями. Кто уступит? Спасет ли Цвейг друга? И хочет ли он этого? Тот, кто стремился освободиться от всех оков, теперь был окован, как никогда крепко. Рот и не думал освобождать его от обязанностей друга. Цвейга мучила совесть, он терзал себя, но и любил своего друга, по-прежнему восхищался его талантом, дорожил его мнением. Рот всегда был резок с ним, беспощадно резок. Цветистые, туманные, вычурные, фальшивые образы, неточные эпитеты – это не стиль Рота. Он был прямой, как лом, и в письмах, и в разговорах. Его нисколько не волновало то, что он зависит от Цвейга и что тот гораздо успешнее его. Это не имело никакого отношения к точности, красоте, качеству написанного. Но он знал, чем обязан Стефану Цвейгу как писатель. Знал и признался ему в этом. На подаренном ему экземпляре своего «Иова» в 1930 году он оставил такое посвящение: «Стефану Цвейгу, которому я обязан “Иовом” – и больше, чем “Иовом”, и больше, чем любой книгой, – я обязан дружбой. Примите же эту книгу, как низкий поклон, и помните обо мне. Йозеф Рот».
В 1931 году в Антибе они писали вместе, а вечерами читали друг другу написанное за день, что-то исправляя, что-то добавляя. Рот читал Цвейгу из того, что станет «Маршем Радецкого», и Цвейг, счастливый, воодушевленный, слушая и перебивая чтеца, тоже рассказывал свои истории, вспоминал собственную, прежнюю Австрию. Образы своего детства.
Позднее, отправив готовую книгу другу, Рот приписал в письме: «Я забыл вам сказать, что несколько сцен в моей книге написаны вами, вы их узнаете, и, хотя я не удовлетворен романом, я очень, очень благодарен вам».
С тех пор Стефан Цвейг стал для него незаменимым литературным советчиком. В январе 1933 года Рот писал Цвейгу: «Не могу начать ничего нового, пока не поговорю с вами. Мне необходимы ваша доброта и ваш ум».
В Остенде несколько недель спустя Рот с Цвейгом вместе просматривают вторую половину «Исповеди убийцы». Он читает вслух, Цвейг критикует, размышляет, переиначивает, высказывает свои соображения, идеи, замечания, вычеркивает слова-паразиты, повторы, указывает на ложные связи. Рот слушает внимательно и сосредоточенно, он открыт для предложений.
Весной этого года Рот впервые пришел в полный восторг от книги своего друга. То, как Цвейг разделался с реформатором Кальвином, очень порадовало его, еврея, почитавшего католицизм. Он зачитывался этой книгой три ночи, писал Рот. «При всем вашем знании реального мира в ваших прежних книгах все же присутствовал некий моральный балласт – определенная склонность к иллюзиям или, скорее, к смутным надеждам. Отбросив это, вы возвысились. Чистота, ясность, прозрачность, то, что я так люблю в мысли и форме. Никакой метафорической мишуры». И далее: «Можете представить себе, как я этому радуюсь, при всем своем почти кальвинистском пуризме». Так он хвалил и превозносил, но и сдерживал себя, проверяя, позволит ли ему дружеская и литературная совесть писать в таком духе своему покровителю. Однако, проверяя, он не мог себя ни в чем упрекнуть. Он был совершенно бескорыстен, все просто великолепно. И, счастливый, прибавил, словно величайшую похвалу: «У меня такое чувство, будто вы нашли дорогу домой и, полагаю, отчасти ко мне».
Находя дорогу домой, писатель находит и дорогу к дому другого. Йозеф Рот был большой тактик, Йозеф Рот был в отчаянии, он хотел любой ценой видеть друга. Хотел говорить с ним, писать с ним, пить с ним, хотел оставаться беззаботным рядом с тем, кто оплачивал каждый счет и разрешал все затруднения своим солнечным разумом. Так что, по-видимому, он немного преувеличил в своем письме. Но именно это он и имел в виду, говоря о возвращении домой. Это было одновременно и желание, и реальность.
Рот чувствовал близость смерти. Его комната, говорил он, похожа на гроб. «Подумайте, ведь мы никогда не знаем, когда видим друг друга в последний раз. И письма не заменят нам мгновений, когда мы встречаемся, здороваемся и особенно когда прощаемся».