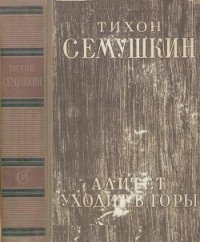Украденные горы (Трилогия) - Бедзык Дмитро (читать книги без сокращений .TXT) 📗
«Это на меня», — обожгла жуткая мысль. И опять вспомнились слова офицерского приговора: «Казнить через повешение»… Значит, на этой сосне, где он когда-то баловался мальчонкой, его, степенного, обстоятельного газду, и повесят. Но за что ж, за что, боже милостивый? Кому я какое зло сотворил? Значит, правду говорил профессор Юркович, что несправедлив белый царь, жесток с простым человеком, в грош не ставит таких подданных. Выходит, чуть коснется дело мужицкой беды, оба царя — что белый, что черный — одной масти, а воюют между собой, чтобы мужик австрийский не назвал москаля своим братом, чтоб москаль не подал мужику руку.
Ну да не печалься, Илько, еще не выпало тебе умирать! Жолнеры не взяли у офицера веревку. Веревка, Илько, осталась в офицеровых руках.
— Разрешите доложить, ваше благородие, — сказал Остап, выпятив грудь.
Поручик утвердительно кивнул.
— Смею заверить, ваше благородие, что мы с Иваном не занимаемся этой профессией.
— Молчать! — гаркнул поручик. — Молчать, хохлацкая морда! — И с размаху ударил Остапа веревкой по голове.
Пошатнувшись, солдат схватился за разбитое в кровь лицо.
— Вот вам, ваше благородие, — сказал, с трудом сдерживая себя, Иван, — вам эта профессия в самый раз.
Поручик ударил веревкой по голове Ивана, после чего шагнул в середину круга и стал приглашать добровольцев, пообещав внеочередной отпуск домой, в Россию.
Над полем, над черными крышами села в лощине нависла мертвая тишина. В толпе сельчан за солдатскими спинами стихли всхлипывания. Солдаты будто окаменели, будто не слышат офицера, уставились глазами в чужие горы, в чужое хмурое небо и молчат.
— Ребятушки, — продолжал убеждать поручик. — Честное, благородное слово офицера: две недели отпуска получите, а дела-то — пустяк. — И опять поднял над головой веревку. — Кто из вас, ребята, согласится?
«Молчат, молчат, никто не согласится, — выстукивало сердце у Илька. — Простые жолнеры за нас, за простых лемков. Еще тебе жить и жить…»
Но вдруг солдатская серая стена выщербилась в одном месте, потом в другом. Солдаты опустили головы, невидящими глазами уставились в бурую, раскисшую землю: не было сил смотреть, как двое из них, в таких же серых, прожженных огнем, пропитанных кровью шинелях, подошли к поручику и взяли у него веревку.
Покута понял: смерть близка, — двое жолнеров, приткнув винтовки к стволу сосны, не спеша стали разматывать веревки, в длинной сделали петлю, а с той, что покороче, подошли к Ильку, связать ему руки.
«Боже мой, — молила в беспросветном отчаянии его душа, — неужели конец пришел? Царь небесный, спаси же хоть ты меня! А ты, царь белый… Для Новака, для помещика, окаянный царь, бережешь его земли! Я-то всю жизнь тебе верил, ждал тебя, царь. Больше, чем самому богу, молился тебе…»
Холодные пальцы солдата коснулись его горячих рук, Илько вздрогнул, отдернул руки… и вдруг изо всей силы ударил локтем в грудь солдата, повалил наземь другого. Вот так! Он еще малость поживет, не дастся смерти, вырвется из этого окаменелого человеческого круга и будет, будет жить!..
Солдаты подскочили и снова накинулись на него, у Илька еще хватило сил отбиваться от них, пока не подбежал поручик и не проломил ему череп револьвером.
— Теперь вешайте, — приказал офицер и, грязно выругавшись, пнул напоследок ногой уже мертвого газду Илька…
На следующий день я записал в дневник:
«Проклятые! Теперь на селе знают, за кого стоит полковник со своими офицерами. За помещика Новака. За Новака они и отомстили газде Ильку. Висит на сосне на страх всему селу. Вышло так, что и панне Стефании не повезло. У нее отобрали маленький пистолетик раньше, чем она успела выстрелить вторично. Первой пулей лишь поранила плечо зверю полковнику. Стефанию взяли под арест, а профессору Станьчику сказали, что ее тоже повесят. О ней теперь люди как о герое говорят. Выходит, что не лежало у нее сердце к Осипову, что это была лишь ловкая маскировка. В точности как дядины пироги. Дядей Петром я теперь горжусь, он настоящий збойник. Загнал куда-то в горы того австрийского «когута», а куда — никто не знает. Сколько ни искал комендант Скалка со своими жандармами — следа не нашли. Ни дяди, ни того пса. Но я верю, дядя вернется и обо всем нам расскажет. Может, он к русскому царю погнал того ублюдка, — пусть царь сам покарает лемка, что отрекся от своего народа.
Мы с Гнездуром и Суханей собираемся во Львов. Граф Бобринский, чье имя часто поминал когда-то дядя Петро, теперь во Львове, генерал-губернатором. Поедем к нему. Пусть отдаст под суд полковника Осипова».
Просторный, обставленный массивной мебелью кабинет «вершителя судеб» галицийской земли. До августа 1914 года за его огромным резным столом сидел имперский наместник барон Гуйн; после разгрома и отступления австрийских войск из Галиции здесь с осени того же года обосновался генерал-губернатор граф Бобринский. При новом хозяине в кабинете, кроме портрета над головой, ничего не изменилось — та же, с позолотой, мягкая мебель, хрустальные, богемской выделки, зеркала под потолком, тяжелые темные шторы на окнах и те же полотна картин на стенах. Графу Бобринскому некогда подумать, чтобы как-то иначе обставить свое рабочее место, дабы кабинет русского генерал-губернатора ничем не походил на кабинет австрийского наместника. С утра до ночи требуют его внимания государственные дела. Аудиенции у генерал-губернатора добиваются богатые купцы, хотят согласовать свои коммерческие дела львовские фабриканты, вертятся, как угри в котле с теплой водой, руководители разных интеллигентских групп и группировок, недавно пришла, гонимая страхом за свои латифундии, делегация земельных собственников выяснить: могут ли они надеяться, что могущественная Российская империя в законном порядке сохранит за ними право собственности на все, чем они владели при австро-венгерском правлении, или, может, позволят вольничать местному мужичью? Обнаруживается, что галицийский хлоп как две капли воды схож с русским мужиком: ему снится помещичья земля, он связывает приход русских войск со своим освобождением от утеснений старого правопорядка… И пришлось, чтобы не допустить анархии на селе, отпечатать предостерегающее воззвание к населению, а в села, охваченные брожением, послать для острастки казаков.
Немало хлопот у графа Бобринского и с этим отродьем смутьянов, с разными украинофилами да радикалами (он всех их, от левых до правых, свалил в одну кучу). По мнению графа, галицийских русинов развратила австрийская конституция. Вместо того чтобы начисто вычеркнуть из лексикона государственных и культурных учреждений не только слово «украинец», но само понятие о некой украинской нации (как это идеально удалось в России министру Валуеву), Австрия позволила русинам и полякам грызться между собой из-за того, о чем в России уже давно забыто. Малороссийская пресса, школы родного языка, разные общества, которых в Галиции расплодилось как грибов после дождя, — все это необходимо прибрать к рукам, заново осмыслить, дать новое направление их политической деятельности. Граф Бобринский сочтет свою миссию посланца самодержавной России осуществленной лишь в том случае, если и в Галиции прозвучат нерушимым законом слова из валуевского циркуляра: «никакого малороссийского языка не было, нет и быть не может».
Но чтобы этого добиться, нужны время и… твердая рука. Политической твердости у графа пока что хватает. Духовный вождь мазепинцев митрополит Шептицкий уже выслан из Львова (правда, не в Сибирь, а, как родовитая особа, граф> всего лишь в Петроград), выслали бы и вождя радикалов Ивана Франко, не окажись этот мужицкий бунтарь в кровати больным. Конфузно признаться, но великий князь Николай Николаевич был прав, когда, проезжая узкими улицами Львова на карпатский фронт, пристыдил его, как сопливого прапорщика:
— Плохой из вас генерал-губернатор, Георгий Александрович, если вы по сие время, на седьмом месяце своего управления, не удосужились даже мазепинские вывески снять.