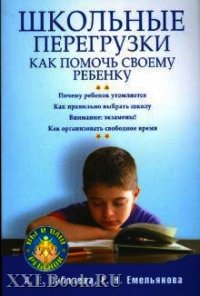Книга судьбы - Паринуш Сание (лучшие книги .TXT) 📗
– Уж на кого на кого, а на поэта он меньше всего похож, – говорила я подругам. – Больше на мафиозо. У поэта душа должна быть тонкая, а не состоять сплошь из высокомерия, досады и злобы. Да и стихи-то вряд ли его: засадил какого-нибудь несчастного поэта в тюрьму и под дулом пистолета заставил его писать стихи, чтобы их присвоить.
И все смеялись. Очевидно, моя болтовня в конце концов дошла и до господи Ширзади. Однажды он прицепился к нескольким незначительным опечаткам, разодрал десятистраничный отчет, над которым я немало потрудилась, и швырнул клочья мне на стол. Я сорвалась, закричала:
– Да что с вами такое? Только и ищете предлога, чтобы придраться к моей работе? Чем я вам навредила, за что вы мстите?
– Уф! Мне вы навредить не в силах, – прорычал он. – Я вас давно разгадал. Думаете, я такой же, как Заргар и Мотамеди, и сумеете обвести меня вокруг пальца? Я таких, как вы, хорошо знаю.
Меня трясло от гнева, резкий ответ уже готов был сорваться с моих губ, но тут вошел господин Заргар и спросил:
– Что происходит? В чем дело, господин Ширзади?
– В чем дело? – огрызнулся он. – Эта женщина не умеет как следует работать. Задержала отчет на два дня и подала его мне – ошибка на ошибке. Вот что бывает, когда нанимают неграмотную женщину лишь потому, что она смазлива и у нее есть связи. Расхлебывайте теперь последствия!
– Придержите язык, – оборвал его господин Заргар. – Это неприлично. Зайдите ко мне в кабинет, нам с вами нужно поговорить.
И он чуть ли не силой загнал господина Ширзади к себе в кабинет, подталкивая его в спину.
Я уронила голову на руки, изо всех сил стараясь не расплакаться. Друзья собрались вокруг и пытались меня утешить. Аббас-Али, уборщик – он всегда старался хоть немного помочь – принес стакан горячей воды и карамельки, и я вновь занялась делом.
Час спустя господи Ширзади вошел, остановился перед моим столом и, не глядя мне в глаза, кое-как выговорил:
– Виноват. Прошу прошения. – И тут же вышел.
В изумлении я оглянулась на господина Заргара, который остановился в дверях, и спросила:
– Что это значит?
– Ничего. Забудьте эту историю, хорошо? Таков уж он. Хороший человек с добрым сердцем, но в некоторых вопросах он принципиален и нетерпим.
– Почему же он нетерпим ко мне?
– Не лично к вам. Для него неприемлемо нарушение чьих-либо прав.
– Чьи же права я нарушила?
– Не принимайте близко к сердцу, – сказал господин Заргар. – Прежде чем мы взяли вас, он рекомендовал на повышение своего помощника, который только что получил диплом. Мы уже собирались оформить его на эту должность, но тут появились вы. Перед собеседованием с вами я обещал Ширзади, что просьба Мотамеди не будет иметь решающего значения. И все же я нанял вас, и Ширзади счел это несправедливостью. При его чувстве чести то, что он называет “фаворитизмом”, нестерпимо. С этого момента он сделался врагом и вам, и мне. Мотамеди он и раньше недолюбливал, потому что любое начальство вызывает у него заведомую неприязнь.
– А ведь он прав! – всполошилась я. – Я заняла чужое место. Почему же вы взяли меня?
– Оставьте это! Неужели я еще и перед вами должен объясняться? Я подумал, что тот соискатель с университетским дипломом легко найдет другое место. Неделю назад его в самом деле взяли на хорошую работу А вы, в ваших обстоятельствах, как бы устроились? Мне пришлось – за что приношу вам глубочайшие извинения – рассказать Ширзади о вашем муже. Не беспокойтесь, Ширзади – достойный человек. Между нами говоря, он и сам всю жизнь был не чужд политике.
На следующее утро господи Ширзади зашел ко мне в кабинет. Он был бледен, печален, глаза у него опухли и покраснели. Он постоял, неловко переминаясь с ноги на ногу, и наконец сказал:
– Поймите, я над собой не властен. Гнев всегда сильнее меня.
И он прочел свое стихотворение о том, как в его душе поселился гнев и превратил его в бешеного волка.
– Я дурно обращался с вами, – продолжал он. – По правде говоря, ваша работа очень хороша. Я с трудом отыскал в ней опечатки, в то время как начальство шлет нам распоряжения из двух фраз с сотнями ошибок.
С этого момента господин Ширзади стал одним из моих лучших друзей и защитников. В отличие от господина Заргара он живо интересовался политической деятельностью Хамида, спрашивал, к какой группе Хамид принадлежал и при каких обстоятельствах был арестован. Его напор, его страстное желание узнать как можно больше вынудили меня к откровенности, хотя мне вовсе не хотелось это обсуждать. Сочувствие сочеталось у него с неистовой ненавистью к режиму, порой он пугал меня своими вспышками гнева. Однажды, что-то ему рассказывая, я вдруг заметила, как он побагровел чуть ли не до синевы.
– Вам нехорошо? – встревожилась я.
– Да, нехорошо, – согласился он. – Но не беспокойтесь, со мной такое часто бывает. Вы понятия не имеете, что творится у меня в душе.
– Что же? – спросила я. – Быть может, и я чувствую то же, только не могу выразить это словами?
И он, как обычно, ответил мне стихами. На этот раз то был плач о множестве убитых в городе, а сам он – уцелевший – был обречен вовеки томиться по справедливой мести, как в пору поста в разгар жаркого дня томится человек по глотку воды.
Нет! Я, принявшая столь тяжкие удары, не ведала столь глубокой скорби – и столь яростного гнева. Однажды он попросил меня описать ту ночь, когда к нам явились с обыском. Я начала рассказывать – и вдруг он утратил власть над собой и, забыв всякий страх, громко прокричал стихи о злодеях, которые стаей злых псов рыщут по городу, а львов нигде не найти, львы пасутся с домашним скотом.
В ужасе я вскочила и захлопнула дверь.
– Ради Аллаха! Вас же услышат! – взмолилась я. – У нас на этаже есть агенты САВАК.
В ту пору мы были уверены, что половина коллег состоит в тайной полиции, этих людей боялись и старались обходить стороной.
С того дня господин Ширзади чуть ли не ежедневно читал мне свои стихотворения – за любое из них и автора, и того, кто их повторит, могли приговорить к смерти. Всем своим существом, каждой каплей крови я впитывала смысл этих слов и запоминала навечно. Юность Ширзади пришлась на пятидесятые годы, пору несбывшихся надежд, его дух был сломлен, и жизнь наполнилась горечью. Присматриваясь к нему, я все думала: неужели жестокий опыт ранних лет непременно оставляет такой неизгладимый след? Ответ я услышала в его стихотворении о неудавшейся попытке переворота 1953 года: он писал, что с тех пор небо сделалось в его глазах океаном крови, а солнце и луну он видел сквозь всполохи сверкающего кинжала.
Чем лучше я узнавала господина Ширзади, тем больше тревожилась за Сиамака. Часто мне припоминалось, как глаза его полыхали гневом и ненавистью в ту ночь, когда громили наш дом, и я спрашивала себя: неужели он вырастет таким же, как Ширзади? Неужели и его участью станут ненависть и одиночество, заслонят от него надежду, радость, всю красоту жизни? Неужели политические, общественные проблемы оставляют вечные шрамы на восприимчивых душах? На душе моего сына! Я сказала себе: нужно искать выход.
Лето подошло к концу. Почти год миновал с ареста Хамида. Согласно приговору нам предстояло прожить без него еще четырнадцать лет. Нужно было как-то приспосабливаться. Ожидание стало главной темой нашей жизни.
Вновь приближался срок записи в университет. Нужно было решать: либо сдаться окончательно и когда-нибудь унести мечту о высшем образовании с собой в могилу, либо записаться на занятия и научиться справляться с теми дополнительными трудностями, которые учеба принесет и мне, и детям. И ведь с каждым семестром будет все сложнее. Я понимала также, что времени у меня мало, нет возможности составить расписание так, чтобы занятия не попадали на рабочее время. И если даже руководство не будет возражать, имею ли, думала я, право злоупотреблять добротой и сочувствием этих людей?
Вместе с тем работа еще более убедила меня в ценности высшего образования. Каждый раз, когда вышестоящие меня третировали и сваливали на меня вину за собственные ошибки – лишь потому, что диплома-то у меня не было, – я сокрушалась о своей участи, и желание учиться вспыхивало вновь. К тому же еще долгие годы мне предстояло быть единственным кормильцем, так что следовало бы продвигаться, добиться со временем большего жалованья, ведь и потребности детей возрастут. И тут все зависело от университетского диплома.