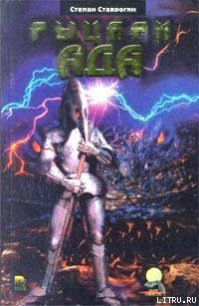Салават Юлаев - Злобин Степан Павлович (читаем книги .TXT) 📗
— Верно! Ладно сказал! Не удумать лучше! — разом заговорили собравшиеся казаки.
— Так-то так, — вдруг всех охладил Коновалов, — а кто же скажет ему?
Казаки быстро и воровато переглянулись.
— Ты старший у нас! — нарушив неловкую заминку, бойко сказал Лысов Коновалову.
— И то!
— Кому же больше! — обрадованно подхватили остальные.
Коновалов синим платком отёр со лба вдруг выступивший каплями пот.
— Говорить я красно не искусник, — забормотал он. — Вот, может, Давилин… Ближе ему… Он дежурный при государе…
— Яким?! Ась?! — спросил Почиталин.
— Нашли дурака! — усмехнулся Давилин. — Аль мне голова не мила!
— Андрей! — воскликнул Лысов, увидав в окно проезжавшего улицей Овчинникова, который, только что оставив в избе Салавата, скакал к царю. Лысов застучал в стекло, торопливо поднял раму окошка и крикнул: — Андрей Афанасьевич!
Овчинников оглянулся. Лысов поманил его, и минуту спустя, бросив коня без привязи у крыльца, полковник вошёл в избу.
— Куда? — спросил Коновалов.
— К государю.
— С чем?
— Башкирцы переметнулись к нам! Привёл больше тысячи, — довольный удачей, радостно сообщил Овчинников.
— Помолчи! — резко остановил Лысов.
— Как бы «сам» не прознал, — поддержал Почиталин, понизив голос.
— Куды ж медведя в мешок?! — шёпотом воскликнул Овчинников.
— К государю не допускать — пусть за стенами табором станут, — указал Коновалов, — а мы…
Он не успел закончить: крики на улице привлекли внимание всех главарей казачества — это промчался обстрелянный из Оренбурга разъезд казаков.
Яицкие казачьи вожаки, пошатнувшись при первом же смелом выпаде осаждённых, начали подстрекать казацкую массу к тому, чтобы, снявшись из Берды, оставив осаду Оренбурга, идти всем полчищем в Яицкий городок. Они говорили, что к рассвету от государя будет указ, что войско снимется быстро и, кто отстанет, тот может попасть в руки солдат Корфа.
Боясь за участь свою и своих семей, которых низовое казачество немало свезло в Берду, казаки начали с вечера по дворам готовить к отъезду добро, делая это втайне от скопища крепостных крестьян, заводских повстанцев и от нерусских воинов. Среди казаков шептались о том, что при переходе Оренбурга к наступательным действиям казаки окажутся отрезанными от яицкого понизовья, откуда большинство из них было родом и где оставили они дома и имущество.
Между тем сам Пугачёв, человек большой личной отваги и незаурядного воинского удальства, и не думал о том, чтобы покинуть Берду. Он знал, что легко забитый обратно в Оренбург гарнизон не отважится скоро на новую вылазку.
Привычный к походам и боевой обстановке, умеющий мыслить как воин, он рассчитывал, что прибытие Корфа в город хотя на сегодня и усилило гарнизон, но через несколько дней станет худшей обузой для осаждённых, когда истощатся привезённые Корфом в обозе фураж и провиант.
В то время, когда по всей Берде слышался шёпот напуганных обывателей, а казаки тихомолком вязали возы, Пугачёв, ничего не зная об этом, довольный удачей дня, победой над вылазкой Корфа, которую справедливо считал наполовину лично своей удачей, сидел вдвоём с сыном Трушкой.
При свете двух оплывающих свечей любовно вглядывался он в задорное личико одиннадцатилетнего Пугачонка, как называл его сам.
Трушка только вчера прибыл к отцу с надёжным человеком, сумевшим спасти его от врагов.
Сквозь своё бродяжное прошлое, через походы, скитания, тюрьму и мятежные замыслы Емельян Иванович Пугачёв пронёс нежность к сыну. И даже теперь, когда, отрекаясь от имени Пугачёва, он доказывал всем, что он «точной», единственный подлинный царь, — он не мог удержаться от сладостного соблазна держать при себе Трушку…
Пугачёв был довольно умён, рассудителен и дальновиден, чтобы не противопоставлять малолетнего казачонка великому князю Павлу Петровичу. Он не называл его своим сыном, но предоставить сыну лучшую участь, чем беспокойная жизнь небогатого казака, было великим прельщением. Держа его при себе, Пугачёв хотел для него использовать все возможности, представляемые судьбой.
— Есть у меня офицер. Третьёводни его в плен привели — Шванович. Грамоте он искусен на разные языки, — говорил Пугачёв Трушке, — велю тебя обучать, по-прусски и по-французски. Бог даст, одолеешь…
— Чего же не одолеть! — бойко сверкнув глазёнками, перебил Трушка. — Дьякон сказал — я вострый на грамоту. Во как перейму.
— Завтра начнёшь, — ласково усмехнувшись, сказал Пугачёв. Он погладил мальчишку по голове. — Только слышь, Трушко, — осторожно понизил он голос, — станет он тебя обучать — и ты полюбишь его. Станет тебе офицер тот как свой, как родня… А вдруг он и спросит: «Трушко, чей ты сын?» Как скажешь ему по правде?
— Государя Петра Фёдоровича, — напыщенно, с гордостью произнёс Трушка, довольный своей догадкой и хитростью.
— Ой, врёшь! Емельяна Иваныча Пугачёва ты сын!.. «А где же твой батька?» — тоном воображаемого офицера опять спросил Пугачёв.
— Да вот, на скамье! — бойко брякнул мальчишка, обрадованный тем, что однажды, хоть одному человеку, он скажет великую тайную правду…
— Опять врёшь, — с укором, тихо сказал Емельян. — Я государь Пётр Третий…
— А Емельян где же? — в тон ему шёпотом переспросил казачонок и опасливо оглянулся, словно ища по комнате двойника.
— Царство небесное! Засечён плетьми за имя моё, — сказал Пугачёв и истово перекрестился.
Трушка растерянно перекрестился, глядя на него. Пугачёв наклонился к сыну, желая что-то ещё пояснить ему, но распахнулась дверь, и он отшатнулся от Трушки, словно его застали за преступлением. В горницу вошёл «дежурный» при Пугачёве, казак Яким Давилин. Он почтительно поклонился, не глядя Пугачёву в глаза.
— К вам казаки, ваше величество, — произнёс он.
И Пугачёв ещё не успел ответить, как в избу целой толпой ввалились казаки. Это были Василий Коновалов, степенный и положительный, весом в двенадцать пудов, с бородой по пояс; молодой писарь, румяный, кудрявый Иван Почиталин; старик Яков Почиталин — отец Ивана, лукавый, с бегающими слезящимися глазёнками; тут был и не раз битый плетьми забубённый пьяница, смелый Иван Чика; Иван Бурнов, Михаила Кожевников и дерзкий, нахальный Дмитрий Лысов, о рыжей бородкой, без ресниц и бровей.
Все эти люди знали, что Пугачёв — самозванец. Иные из них, как Чика, слыхали от него самого, другие знали друг от друга — близкий круг людей, связанных прежде интересами своего казачьего войска, а теперь скреплённых общей великой тайной.
По тому, что почти ни один из них не глядел в глаза, перешагивая порог, по тому, что не выполняли они заведённого ими самими обычая — входить церемонно, и по докладу, и по их суровой молчаливости Пугачёв понял, что предстоит не обычное совещание с военной коллегией, членами которой являлись пришедшие казаки.
— К тебе, государь-надёжа! — сняв шапку, первый сказал Коновалов, и общим гулом вздохнули за ним остальные, словно невнятное эхо: «К тебе… надёжа…»
— Депутацией целой! — недовольно встретил их Пугачёв. — Садитесь, гостями будете, — попробовал пошутить он, но шутка не вышла, и он её сам оборвал со злостью: — Зачем пожаловали, господа атаманы?
Уже раза два приходили к нему атаманы такой же толпой, в такое же позднее время, и оба раза он вёл с ними споры и вынужден был уступать их давлению. В таком составе, в такую пору они приходили к нему для того, чтобы напомнить, что знают, кто он таков, и угрозой принудить все делать по их желанию и в их интересах…
На этот раз казаки так же, как и тогда, мялись, подталкивая друг друга.
— Скажи, Иван, — вслух шепнул старик Почиталин Бурнову.
— Ты постарше, тебе говорить, — отозвался вполголоса тот.
— Говори, Яков Васильич, — громко поддержал Бурнова Лысов. — Чего там бояться, люди свои!
— Мнётесь чего? — нетерпеливо и резво понукнул Пугачёв.
— Страшатся вас, ваше величество, то и мнутся, — пояснил Коновалов, шагнул вперёд, и под ним со скрипом погнулась половица.