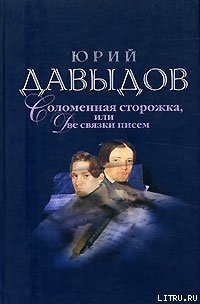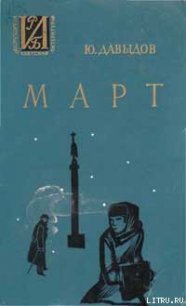Глухая пора листопада - Давыдов Юрий Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
Он обнял Шебалина, обнял Прасковью, все трос были тронуты этой порывистой искренностью встречи.
– Вот, – сказал Дегаев, улыбаясь, – вот видите! – И потряс страничками, исписанными Якубовичем. – Начнем, что ли? Времени мало.
Работали в задней, наглухо зашторенной комнате. Для прокламаций была припасена гладкая, чуть желтоватая бумага; текст оттиснулся чисто, изящно. И на тот же лист печатный станок-самоделок впервые положил тургеневское стихотворение в прозе, доселе известное лишь в списках. За стеной, в столовой глухо били часы. Работали молча, косясь на убывающую стопку бумаги. И уже не брали за душу примелькавшиеся строки «Порога», тургеневского стихотворения: «Я вижу громадное здание… Морозом дышит та непроглядная мгла… Ты готова на жертву?..»
Мелко и часто, как нищенка, застучал в окно дождь. Зажег свои огни Столярный переулок, узкая тихая набережная зажгла неяркий газ, пометила темный канал бледными пятнами, похожими на лики утопленников.
И наконец, когда уж руки совсем отяжелели, наконец – последний гладкий желтоватый лист, последняя прокламация. Прасковья Федоровна призналась, что ошиблась счетом где-то на четвертой сотне.
– Полтыщи будет, – определил Дегаев, щурясь.
– Не меньше. – Шебалин потянулся с хрустом. – А голоден я чертовски.
За ужином мужчины выпили. Дегаев устало обрюзг, глаза его увлажнились, но он еще и опять прикладывался к рюмке. Пил он страдальчески, нехорошо, ел нехотя, будто силком. Лицо его состарилось складками, ребром ладони он тер другую, напряженно раскрытую ладонь, точно скатывая грязь, словно брезгуя своими ладонями.
Он сам, не дожидаясь вопросов, принялся рассказывать, как ездил в Швейцарию, как гостил у Тихомирова, как барышня, одесситка какая-то, обвинила его в предательстве… И вдруг рассмеялся, морщась и потряхивая тяжелой головой. Потом резко сшиб ладони: «Пусть! Пусть!»
– Вы кушайте, кушайте, – сказала Прасковья Федоровна, как говорят капризным, хворым детям.
Он опять, но уже будто благодарно рассмеялся, однако лицо его не переменилось, складки и вмятины не разгладились.
Шебалин вздохнул.
– Сдается, больны вы, Сергей Петрович. Вам бы полечиться. Понимаю, не время, однако ж…
– Болен? – переспросил Дегаев. – Вы полагаете, болен? – Он опустил веки, веки были почти синими. – Если и болен, так одними мигренями. От этого не умирают.
Прасковья Федоровна осторожно убрала графин, принесла чаю.
– Помните? – сказал Дегаев, быстро и трезво взглядывая на Шебалина. – Помните, Миша? Мы как-то о терроре с вами… Я тогда промолчал, а теперь скажу. Верю в террор, признаю. Да вот какая штука… Вот скажите мне: иди и убей! – Он поежился. – Не могу! – И ударил кулаком по столу. Ударив, сник, сказал чуть слышно: – Кровь, страдания… Не могу.
Это «не могу» вдруг всколыхнуло и подняло в Шебалине что-то недоброе к Дегаеву, Шебалин почувствовал останавливающий взгляд Прасковьи Федоровны, но упрямо мотнул головой.
– Страх виселицы?
Он ждал колебаний, раздумий, а Дегаев ответил быстро, как вытолкнул:
– Да!
Потом добавил:
– Расстрел – это другое, Миша. Совсем другое.
– Напрасно, – возразил Шебалин все с тем же недобрым чувством к Дегаеву. – Я читал: при повешении смерть мгновенная, а когда расстрел – не всегда.
Дегаев заспорил. Руки его двигались, как потерянные, но глаза уж не бегали – стекленея, вперились во что-то такое, чего не различали ни Шебалин, ни Богораз. Он не докончил фразы, осекся, тяжело дыша. Потом вымученно усмехнулся:
– Ну что ж… Мне пора, прощайте. – И уже в прихожей спокойно напомнил: – Они придут в первом часу.
Они пришли в первом часу – Блинов, Сизов, Флеров… Еще приходили, называя пароль, и ускользали в ночь, рассовав прокламации по карманам пальто, по карманам пиджаков.
Дождь убрался. Небо прояснело, город встал, черный и четкий, в мерцании куполов и шпилей.
4
Далеко от Столярного переулка, от канала и Кукушкина моста отцокивали донские жеребцы – казаки окружали Волково кладбище… Полицейский резерв в мокрых, потяжелевших шинелях располагался в помещении Ямской пожарной части, где пахло сытыми битюгами и брезентом и воинственно блестела яркая медь.
Особый наряд жандармерии раздирал зевотою рот в зале ожидания Варшавского вокзала…
От Столярного переулка в стороне, в стороне от Кукушкина моста, на Невском проспекте, в третьем этаже доходного дома, Георгий Порфирьевич Судейкин читал свежую прокламацию.
Он сидел, небрежно распустившись, без сюртука, притомившийся за день. Яблонский, сняв пиджак, прохаживался по комнате, иногда останавливаясь позади Судейкина и взглядывая на его массивный, круглый затылок, на мощную, столбом, шею.
Обернись в ту минуту инспектор секретной полиции, он бы дрогнул под сверлящим взглядом своего главного агента и союзника, но Георгий Порфирьевич не оборачивался, а читал прокламацию, читал тургеневский «Порог». Дочитав, задумчиво удивился:
– Ох, как верно!
– Что «верно»? – спросил Яблонский.
– Да вот тут, про эту вот девушку. Видел я таких, не одну видел. Все грозит: и тюрьма, и забвение, и голод, сама смерть грозит, и она это знает. Однако вот же: «Я готова…» Странные люди, право, – продолжал он с уважительным недоумением, – никак не пойму их. А верите, батенька, у меня к ним ненависти нет, вот чтоб душой ненавидел, нет этого. Да коли по чистой совести, куда-а они выше наших-то. Ку-уда-а! Нет, что ни говори, достойные люди.
– С такими мнениями, – съязвил Яблонский, – вас бы в Исполнительный комитет…
– Э, у меня ставки всегда верные, батюшка, – серьезно возразил Судейкин. – А ихнее дело – табак. Пропащее. А только не хотят они того в расчет принять, что кончилось.
– Так-таки и кончилось?
– А как же? Старики – тю-тю, молодые, сами изволили говорить, плохонькие новобранцы. – Он подумал. – А еще вот что. Тут, может, и не в них корень. Тут, может, время минулось?
– Время, Георгий Порфирьевич, такие курбеты выкидывает – диву даешься.
– Так-то оно так, а все ж… Впрочем, теории эти не мой конек… Вы что ж? Отужинать не желаете ль?
– Нет, – вяло отказался Яблонский, – я ужинал. А вас и угостить нечем: без хозяйки дом сирота.
– Ничего, хозяйку свою скоро выпишете. Жива-здорова? Не на сносях ли, случаем, а?
– Подите к черту! – внезапно вскипел Яблонский.
– Полно, полно, – урезонил подполковник. – С чего это взвились? Я, можно сказать, душевно… А знаете ль что? Мы вам, батенька, денщика определим. Малый на примете, отличный малый! Сейчас это он в Озерках, в ресторации, половым. Намедни явился: просит определить в услужение. Отличный малый. И фамилия – гром: Суворов! – Судейкин рассмеялся. – Ну как?
– Угу… – Яблонский покачивался на носках штиблет. – Понимаю. Очень вас понимаю, милейший Георгий Порфирьевич. – Он пихнул кулаки в карманы брюк. – Шпиона приставить хотите? А? Шпиона?
– Ну вот, опя-я-ять, – благодушно протянул инспектор. – И что это, прости господи, на вас наехало? Как подменили, право. Надо ж: «шпиона»! А зачем? Мы ж в сердечном соглашении, а? Вы вот не открываете, где типография, я и не лезу. Понимаю – надо вам, и не лезу. А ведь давно мог бы проследить. Так, что ли? Ну вот, а вы: «шпиона». Нехорошо-с! А денщик вам нужен. Вы как белка в колесе, а Суворов-то, смотришь, все бы в аккурате.
– «В аккурате», – проворчал Яблонский, выпрастывая руки из карманов, прохаживаясь по комнате и уже думая, кажется, не о денщике-соглядатае с громкой фамилией. – У кого и впрямь в аккурате, так у мсье Судейкина Георгия Порфирьевича.
Судейкин смекнул, откуда ветер дует.
Недавно, после удачных маневров в Красном Селе, император Александр Александрович, пребывая в отменном расположении духа, согласился с Плеве, что давно уж пора обласкать инспектора полиции высочайшей аудиенцией.
Георгий Порфирьевич возлагал чрезвычайные надежды на личное свидание с государем. Судейкину оно даже во снах являлось. Бессчетно примерял он и взвешивал все, что скажет, все, что должен поспеть сказать в краткой аудиенции. Но, в сущности, Георгий Порфирьевич не на словеса уповал, а на общее и непременно выгодное впечатление, которое он сумеет сделать на царя. И тогда-то уж карьере его даны будут такие шпоры, что, смотришь, и без убийства министра Толстого, дела хлопотного и рискованного, обойдется.