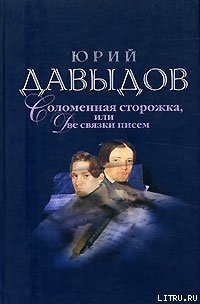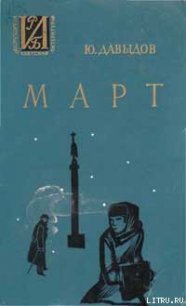Глухая пора листопада - Давыдов Юрий Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
Но вышло не совсем так, как он предполагал. И даже вовсе не так. Георгий Порфирьевич посейчас не прощал себе эту дурацкую робость. В назначенную минуту инспектор в мундире и при всех крестах, твердопружинным, в корпусе еще заученным шагом прибыл на высочайшую аудиенцию. «На него можно иметь влияние, – повторял мысленно, – и все будет в порядке». И вот император был перед ним, эдакая мясистая громадина. Блекло-голубые глаза уперлись в подполковника. «Ого, братец, ты, однако, как коломенская, – проговорил Александр своим ровным простецким голосом и подал Судейкину руку. – Здравствуй. Много наслышан о тебе. Ты молодцом. Старайся!» Тут бы и ухватить счастье за подол, а он, дурак, оробел, точно институтка, и петуха пустил: «Рад стараться, ваше императорское величество!» Государь колыхнул толстыми щеками – и был таков. Ничего Судейкину не оставалось, как повторять сослуживцам: «Руку мне подал, наслышан, говорит, о тебе много…»
Нынче, однако, не повторил. Он знал, почему Яблонский намекает на аудиенцию: Яблонскому тоже ведь сулили личное свидание с императором. «Не слишком ли, сударь, нос дерешь?» – сердито подумал Георгий Порфирьевич, раздраженный воспоминаниями о собственной дворцовой неудаче.
– А вы меня одному Плеве представили, – колюче продолжал Яблонский. – Не велика птица.
– Хотели было и его сиятельству, да министр, извините, не пожелал, – мстительно парировал Судейкин. – Да-с, не пожелал, уж вы, батенька, не обессудьте.
Лицо Яблонского пошло пятнами.
– Ну, будет… – хохотнул Судейкин. – Обменялись любезностями, и будет. Чего нам делить-то? Вы ж видите, я для вас отца родного не пожалею. Может, убрать кого? Да я не про арест, нет, – небрежно отмахнулся Судейкин. – Убрать, говорю, чтоб престиж укрепить. Ваш престиж, батенька. И это пожалуйста! Изобличите любого из моих людей – бейте насмерть. Хотите? Сам и назову. Хотите питерского, хотите московского. Ну-с?
Яблонский процедил:
– Экая мерзость…
Судейкин нахмурился, вытянул ногу, достал портсигар и закурил. Курил он дорогие душистые папиросы. Аромат их вызывал в памяти Яблонского рисунки из переводных английских романов. А Георгий Порфирьевич полагал, что именно так пахли сигары, которыми дымил, задумавшись, знаменитый сыщик Лекок.
– Слушайте, – произнес наконец Судейкин тем значительным тоном, каким говорил с Яблонским о самом важном, – а граф-то наш, Дмитрий Андреевич, привычек не меняет.
– То есть?
– По-прежнему ровно в два пополудни – на Морскую: графинюшка с обедом ждет.
– Это известно, – нехотя ответил Яблонский.
Судейкин, подняв брови, изобрел сизое колечко дыма.
– И как же? Скоро ль, позвольте полюбопытствовать?
Яблонский, помолчав, ответил кратко:
– Аудиенция прежде всего.
– Условие? – невозмутимо осведомился инспектор.
– Еще весной условились.
Судейкиным завладело раздражение. Этот Яблонский и вправду слишком того-с. Но и Вячеслав Константинович, черт дери, мог бы похлопотать… Сдерживаясь, инспектор погасил папиросу. Плебейским жестом погасил – вдавливая в пепельницу, покручивая из стороны в сторону.
– Употреблю все усилия, – сказал он и переменил разговор.
Иронически хекая, стал рассказывать, что в департаменте озабочены завтрашними (поправился: «Нет, уж сегодняшними…») похоронами, что ползают зловещие предположения вроде возможности бунта, что перепуганы не только «сферы», но и биржевые маклеры, а заграничные телеграммы сообщают о падении русских бумаг на европейских биржах. Последнее обстоятельство отчего-то сильно забавляло Георгия Порфирьевича, и он даже как бы обиделся на равнодушие Яблонского.
Они распрощались глубокой ночью.
– Вы пойдете? – спросил Судейкин, надевая пальто и кожаные калоши, изнутри подбитые синим сафьяном с замысловатыми серебряными вензелями. – К Варшавскому-то, говорю, пойдете?
Яблонский кивнул и в свою очередь спросил:
– А вы?
Судейкин потопал калошами.
– А зачем? Моих там сотня набежит, хватит. Смотрите не опоздайте: из Вержболова депеша – прибытие в десять двадцать.
5
Полицейская депеша оказалась точной, как и железнодорожное расписание: в десять двадцать у дебаркадера Варшавского вокзала протянулись, стадно поталкиваясь, пассажирские вагоны, покрытые пылью континента.
Перед вокзалом разливалась несметная толпа, дожидавшаяся Тургенева. И день выдался тургеневский, оптической ясности день, на холодеющем небе которого стояло четкое солнце. Ветра не было.
Ветра не было, и страусовые перья не вздрагивали на тяжелой золотой парче балдахина, как недвижны были и белые плюмажи на шестерке слепых лошадей.
Шестерке слепых лошадей везти колесницу шесть верст. Шесть долгих булыжных верст, где ждут Тургенева такие же несметные молчаливые толпы, как здесь, у Варшавского вокзала.
Варшавский вокзал декорирован крепом. Вопреки запрету вокзальный подъезд в трауре, и люди, пригретые солнцем, неотрывно глядят на подъезд, из которого сейчас вынесут гроб с прахом Тургенева.
Гроб с прахом Тургенева, ясеневый, французский, без ножек, заклепанный, высоко выплыл, и толпа придвинулась к нему, снимая шапки. За гробом теснились те, кто был допущен (по списку, по списку!) на перрон: архимандрит Герасим с духовенством Казанского собора, только что отслужившим литию; высокий, в очках градоначальник генерал Грессер, несколько литераторов и актеров. Толпа, приливая все ближе к катафалку, смотрела, как устанавливают, посовывают, двигают нерусский, без ножек, заклепанный гроб, как на верх балдахина возлагают первые венки.
Венки, покрывая балдахин, роняли лавровые листья. Генерал Грессер что-то говорил полицейскому офицеру. Потом генерал сел на коня и махнул перчаткой, давая знак, чтоб процессия выстраивалась согласно утвержденной диспозиции: хор русской оперы по четыре в ряд, депутации по пяти в ряд, все сто восемь депутаций, перечень коих был тоже утвержден теми, кому ведать надлежит похоронами писателей. Удостоверившись в правильности происходящего, градоначальник сделал ручкой, и процессия двинулась.
Процессия двинулась, колыхая венками, шаркая и растягиваясь, неустроенным покамест маршем, а колесница с гробом долго еще стояла у вокзального подъезда. Но вот уже пошла и последняя депутация – от Академии художеств. Факельщики в черных цилиндрах воздели черные факелы, Григорович и Успенский, Станюкович и Гайдебуров подняли тяжелые, как гири, золотые кисти, свисавшие с гроба на длинных витых шнурах, и шестерка слепых лошадей, медленно склонив плюмажи, повлекла катафалк с прахом Тургенева. Хористы русской оперы запели «Святый боже».
«Святый боже» пели и далеко от катафалка, во главе шествия. Пели студенты Института гражданских инженеров, студенты Горного. Пели и в середине шествия, там, где универсанты несли громадный, во всю ширину процессии венок с портретом Тургенева.
На Санкт-Петербург печально смотрел Иван Сергеевич. В сизой январской мгле никла голова Пушкина. Мартовская капель ударяла о подоконник в квартире Белинского… Здесь, в Петербурге, мгновенно и на всю жизнь блеснули глаза Виардо; дочь ее, смуглая и легкая, шла за гробом… А недавно, ранней весной семьдесят девятого, город чествовал писателя-гражданина; он принимал овации, принимал адреса и лукаво усмехался: «Ведь я понимаю, не меня чествуют, а бьют мною, как бревном, в правительство». Студенческая молодежь приглашала наперебой. Приглашал университет, тот самый, где он семнадцатилетним слушал курс истории, темно и плохо читанный Гоголем; приглашал Горный институт. Но ему уж деликатно – о бархатные душители с обольстительной улыбкой! – ему уж дали понять неудовольствие высшей власти тем, что печатно и устно называли «тургеневскими торжествами». Он не поехал ни в Горный, ни в университет. Из Горного сами пришли к нему в Европейскую гостиницу. Стоя, с опущенной головою выслушал он приветственный адрес. И пожал всем руки. И тогдашнему первокурснику Коле Блинову пожал Тургенев руку, Николаю Блинову, который шел теперь в длинной медленной процессии, лившейся уже Звенигородской улицей.