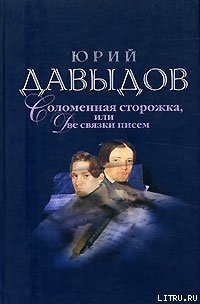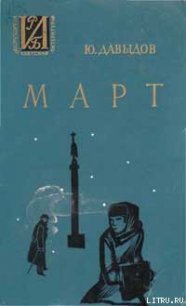Глухая пора листопада - Давыдов Юрий Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
Инспектор Судейкин заметил, впрочем, что, по его мнению, обойдется без демонстрации: «Публика осторожничает, не желает острых происшествий». Однако, объявил Георгий Порфирьевич, листовок не миновать.
– Что-о? – вскинулся Плеве.
– Да как вам выразить… Ну-с, что-то бы вроде биографии в красном освещении.
– Нельзя допустить, – резко, словно ножницами щелкнув, приказал директор департамента.
Судейкин вздохнул:
– А надо бы, ваше превосходительство. Уступочка требуется.
Плеве с холодной вопросительностью озирал инспектора. Инспектор усмехнулся.
– Яблонский настоятельно просил, чтобы не трогали. Позарез ему это нужно, Вячеслав Константинович. А то, говорит, не ровен час главное рухнет. – И Судейкин эдак вдумчиво шевельнул светлыми бровями. – Главное, ваше превосходительство. А эти-то листовки… Да шут с ними совсем, пусть тешатся.
Быстро, мелко дрогнула щека у Плеве, он тотчас подпер ее ладонью. С того душного летнего полдня – стрижи за окном чертили темный штрих, потом гроза громила город – ни разу не заходила у них речь о покушении на министра Толстого. И хотя Плеве был уверен, что Судейкин не отступил, не стушевался, он все же ни о чем не спрашивал инспектора: умение выжидать есть признак государственной мудрости. Плеве не спрашивал, не торопил. Он знал, тут такие пружины пущены – искуснейшей механики требуют. И он ждал. И вот дождался. Его прокурорский ум верно схватил связь между листовками и устранением графа Толстого: не в листовках был корень, а в том, чтоб ненароком не зацепить Яблонского.
– И все ж эти листовки…
– Неприятно, – согласился Судейкин, – однако черт с ними, пусть-ка поиграют.
2
Кунья – так эта речка называлась. Погост, где имение Карауловых, назывался Успенским. Псковская тут была сторона, глушняк, и хорошо тут было Якубовичу. Стыдливым бегством спасаясь от Петербурга, он врачевался монотонной красою севера. Он оживал, все в нем уравновешивалось.
Уезжая из Петербурга, он говорил Коле Блинову: «Поверьте, я еще не знаю, готов ли к приятию креста…» Нет, не страх налагал ярмо бессилья. Революция – это sanctum sanctorum, святая святых. Заветное место в храме даже первосвященник посещает однажды в год. В революцию тоже приходят однажды. Однажды в жизни. Как в самую жизнь. Революция – sanctum sanctorum… Готов ли ты нравственно? Об этом он думал и теперь, вдалеке от Питера, этим псковским летом, горько-мглистым от верховых пожаров в окрестных лесах…
День был прост, как детская картинка. Накануне отошли, а может, совсем угасли пожары, ветер унес шершавую мглу, и в тот ясный день у ясной речки Куньи пришло освобожденье:
Он вернулся домой. В комнате, отведенной Якубовичу, было как в горнице, как в светелке. Пахло сосной и ромашкой, он любил полевые цветы. И прохладу вымытых, но еще сырых некрашеных полов. И простор за окном. Век бы тут вековать. Всегда, верно, на душе как в светлое воскресенье. Какая прелесть в размеренности бытия. Спешка – разрушительница гармонии. Никуда не спеши. Не спеши… Да, но если ты уже свободен от ярма бессилья? Тогда что же?
Он, однако, помедлил. Хотелось издали, как живописцу, вглядеться «в тот город роковой». Якубович испытывал к нему больное, смешанное чувство нежности и ненависти. На бережку Куньи захотелось воспеть брега Невы.
Он сочинил стихотворение длинное, бледное. И назвал блекло: «Сказочный город». Но странно: остался доволен и «белым саваном ночей», и «яркими звездными очами», и даже «лабиринтом стройных улиц»…
А на другой день, снова тонко и терпко подернутый дымкой, Якубович уехал в Санкт-Петербург.
К брату, в казенную квартиру при клинике баронета Виллие, Якубович не вернулся. Зачем приваживать к семейному дому филерскую мошкару? Мама и сестра сильно противились его отдельному, на холостую ногу житью; брат тоже возражал, но сдержанно: Якубович не обиделся – у каждого своя дорога.
Устроившись на квартире в Спасской улице, Якубович оглядел Петербург, уже отягощенный спелостью августа, громадный и ясный, остывший после зноя июля, но еще не холодный по-осеннему, оглядел Петербург, пожалел, что Роза задерживается в своем Каменец-Подольске, и поймал себя на том, на чем ловил не однажды, возвращаясь в столицу: его тянуло в литераторские углы, где дымили папиросами и тянули «медведя» – адскую смесь пива с шампанским; где загадочная красавица Вентури в сквозящем пеплоцветном хитоне выпевала греческие гекзаметры; беллетрист, пролаза и весельчак Бибиков декламировал наизусть главу за главой «Евгения Онегина»; худущий Фофанов, напившись вмертвую, объявлял, что он есть бог-вседержитель, и вдруг, безумно-трезвый и вместе как лунатик, произносил певучие и сжатые строфы…
Якубович корил себя за «неисполнение долга», но ему, право, требовалось потереться среди сочинителей, и он знал, что это ненадолго, минет, как хмель. И точно, недели не прошло, ему надоело «пустое кипение», он сам отыскал Дегаева, только что приехавшего из-за границы.
Дегаев, оказывается, не покинул мысли поручить ему редактирование подпольного листка; благо типография, наконец, сладилась и действовала. Впрочем, теперь Сергей Петрович заговаривал и о другом: о создании революционной «Студенческой лиги».
Якубович уже подступал к созданию лиги, вел в этом смысле длинные беседы с товарищами по университету, но тут были получены известия о тяжкой болезни, а потом и смерти Тургенева, о том, что тело его везут в Петербург, а хоронить будут нарочито в будни при надзоре явной и тайной полиции.
Не городовым, не казакам бросились народовольцы объяснять, кто он такой был для России, этот умерший писатель. И Якубович, забыв свою лигу, тоже отправился на сходку одного из рабочих кружков.
Никогда еще не держал он речей мастеровым, и нынче за Невской заставой, на Шлиссельбургском тракте, уже миновав трактир «Китай», опознав по приметам рубленый домик слесаря-бобыля Матвея Ивановича, Якубович оробел «меньшого брата». Черт догадал направиться к мастеровщине Семянниковского завода… Твое оружие – перо, вот и воюй, а не лезь в Цицероны. Ну что ты скажешь? Что изречешь? «Великий художник слова… Поразительный стиль, музыкальный язык»? А им, верно, плевать. Их умственная и мускульная энергия иссушена пламенем горнов.
Покрикивал служебный паровозик заводской узкоколейки. Визжала блоком трактирная дверь. В обнимку шлепали четверо, выдыхая спиртное… Якубович опять подумал о никчемности «музыкального языка, поразительного стиля»…
Мастеровые ждали. Он увидел напряженные скулы. Хозяин, в пиджачке на плечах, немолодой, с легким хохолком над крутым чистым лбом, принял гостя с подчеркнутой, даже церемонною уважительностью.
Якубович конфузился. Кто-то осторожно кашлянул:
– Курить дозволите, господин?
– Да, да, пожалуйста! – заспешил Якубович, презирая свой искательский тон.
Матвей Иванович осторожно, как барышню, тронул его за рукав:
– А вы не беспокойтесь. – И прибавил, как показалось Якубовичу, не без иронии: – Мы все поймем.
Потом уж, близ полуночи, возвращаясь из-за Невской на паровом трамвайчике, Якубович радостно недоумевал: откуда и как снизошло на него что-то похожее на истинное вдохновение? Серьезная ль жадность слушателей, собственная ли любовь к русскому гению – все ли это вместе зажгло его, и он сказал именно то, что надо было сказать?
Паровой трамвайчик шумел и звякал в большой сентябрьской черноте, справа, совсем рядом, невидимо, но ощутимо неслась холодная Нева, и Якубович, нахлобучив шляпу, поджимая зябнущие ноги, старался удержать в памяти свою речь. Вот сейчас, дома, на Спасской, он сядет к столу и запишет ее, потому что ждут от него текста для листовки, для тех листовок, что отпечатают в крохотной «летучей» типографии и принесут на похороны Ивана Сергеевича Тургенева… Да, да, нынче же ночью Якубович напишет эту листовку. Наверное, кое-что добавит и переменит, но суть останется, та суть, те слова, которые он произнес в окраинном домике… Не за красоту слога, не за поэтическую живость картин природы, не за талантливость характеров страстно и горячо относятся к Тургеневу лучшие люди России, лучшая часть молодежи. Барин по рождению, аристократ по воспитанию, «постепеновец» по убеждению, он сочувствовал… нет, он служил русской революции, был честным и чутким провозвестником ее идеалов. А вы, господа либералы, вы распространяете письменные и устные мнения самого Тургенева, смысл которых – неверие в близость и успех революции. Пусть так! Для нас важно другое: он служил русской революции сердечным смыслом своих произведений, пел русскую молодежь, называя ее святой, самоотверженной.