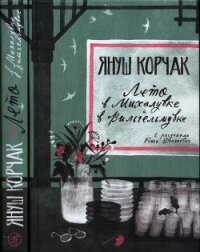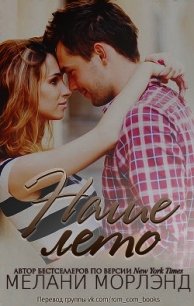Остенде. 1936 год: лето дружбы и печали. Последнее безмятежное лето перед Второй мировой - Вайдерманн Фолькер
Ей импонирует его дар подтрунивать над собой, над своей неуклюжестью и отнюдь не воинственным видом, над своей негероической жизнью. Но вскоре она понимает, что это ни в коем случае не означает, будто она может тоже подтрунивать и распространяться об этом. Он невероятно раним и мнителен, и даже Ирмгард Койн не может предугадать, что его заденет. «Он был настолько уязвим, что и при мне носил маску», – скажет она позже биографу Рота Дэвиду Бронсену [62].
Вот каким она его видела: в личных делах и в мелочах он такой же, как в политике и в важных делах. Его ум ясный и острый, и он все провидит: и свою гибель, и гибель своего мира, и, конечно, он понимает, что его монархизм – химера, детская вера, сладкая ложь, которую он говорит себе изо дня в день, чтобы вынести жизнь, вынести свою ясность и знание. Собственно, к этому и призван писатель – видеть иной мир, желать иного мира и описывать иной мир, а не тот, что есть и будет.
Ирмгард Койн знала о нем все: «В своих книгах Рот охотно погружался в мир старой австрийской монархии, мир, который, как ему отчаянно хотелось верить, был – по крайней мере некогда – родиной его мыслей и чувств. Но он знал, что всегда был и будет безродным. Во всем, что входило в его жизнь – в людях, вещах, идеях, – он обнаруживал самый потаенный изъян и чувствовал холод, способный заморозить любое живое, теплое дыхание. Поэтому его манили чуждые миры, которые, мнилось ему, останутся для него непостижимыми, хранящими тепло. Но то, чего достигало его беспокойное творческое воображение, снова и снова разрушал его злосчастный ум. Он благословил бы даже дьявола и назвал бы его Богом, если б тот помог ему обрести веру в него. Временами он видел себя в каком-то пустом призрачном пространстве, на пограничье рационального и мистического, оторванным от реальности, тщетно пытающимся достичь недостижимого и сознающим его недостижимость. Он мучился и хотел во что бы то ни стало освободиться от себя, стать тем, кем он не был».
Легче всего это сделать, когда пишешь. «Зайка, у меня есть отличное изобретение», – возвещает он своей подруге за столом. Коротко улыбается и тут же с головой уходит в свое изобретение. Он пишет о том, что их окружает и о чем они говорят. Но что Ирмгард Койн с трудом узнает после того, как он запишет: «Его воображение мгновенно все превращало в нечто иное». И у него всегда наготове дельные идеи, не только литературные, а и вполне практические. Когда Ирмгард Койн сетует на то, что ее муж, верноподданный нацист в Германии, не соглашается на развод и она не знает, как его переубедить, Рот предлагает отправить ему открытку с извещением о том, что здесь, в Бельгии, она спит с евреями и неграми. И все разрешится само собой. Роту нравятся удачные придумки, и он считает, что лучшими из них обязан шнапсу. «Если хочешь, я покажу тебе в любой из моих книг хорошие пассажи, появившиеся благодаря хорошему кальвадосу», – сказал он однажды Соме Моргенштерну. К сожалению, тогда у него не было при себе книг.
Любимое его занятие – сочинять байки для подруги. «У тебя такие красивые длинные ресницы», – говорит она ему однажды. И Рот отвечает ей: да, да, а все потому, что давным-давно он перенес глазную инфекцию, из-за которой на короткое время ослеп и лишился всех ресниц. Ему пришлось тогда бесконечно колесить с толпой слепцов, часто падая и натыкаясь на стены. Не совсем понятно, почему в итоге его ресницы стали густыми и длинными, но история занятная.
Стефану Цвейгу греет сердце одно весеннее воспоминание, и он рассказывает Роту, как несколько лет назад познакомился с очаровательной женой издателя. «До чего же к лицу фрау Кипенхойер майское утро», – воскликнул в умилении Цвейг. На что Рот заметил: «Вы еще не видели ее сентябрьским вечером». В свою очередь пораженный Цвейг ответил: «Сразу видно, что вы настоящий поэт».
Йозеф Рот особенно обворожителен, когда Ирмгард Койн от него ничего не ожидает. Без всякого умысла она говорит ему, что соскучилась по немецкому черному хлебу. Тут Рот видит вдалеке извозчика, который кормит лошадь черным хлебом. И он пускается следом за этой парой, чтобы через полчаса явиться перед своей возлюбленной, сияя от счастья, с буханкой черного хлеба.
Когда они пишут, а пишут они всегда, Койн и Рот сидят за отдельными столиками. Она у окна, он – в глубине бистро. Он не выносит солнца. Его глаза, его опухшие ноги и кожа, его костюм – ничто в нем не создано для летнего солнца. Они сидят на расстоянии окрика друг от друга. Каждый настороженно посматривает на другого, гадая, кто быстрее продвигается. И кто больше пьет.
Их общий писательский день начинается с чтения гороскопа в Paris Soir и заканчивается в пять вечера с приходом Стефана Цвейга. Тот проходит мимо ее столика, коротко приветствует и направляется в темный угол бистро к своему другу.
В самом начале их знакомства Ирмгард Койн держит дистанцию и пишет в Америку: «Стефан Цвейг – прекрасный человек, гладкий, как бархат, источает доброту и человеколюбие. Я не могу подступиться ни к нему, ни к его книгам». Эти двое – совершенные чужаки. Но есть нечто: ревность к этому человеку, взявшемуся играть роль верной, заботливой жены в хаотичной жизни Йозефа Рота. А еще стыд. Она не хочет, чтобы ее любимый писатель зависел от этого человека. Она не хочет, чтобы Цвейг чувствовал свое превосходство над Ротом. Она не хочет, чтобы ее гениальный Рот был на содержании у Цвейга. Постепенно все это перерастает в нечто близкое к вражде, и вот уже она смотрит на лучшего друга Рота недобрыми глазами: «Он кажется декоративным. Именно таким, каким кинозритель представляет себе знаменитого писателя. Светский, элегантный, холеный, с меланхолической поволокой во взгляде. Он с любовной сердечностью рассказывает о Вене и рисует милые пастельные картины своей жизни, которая уже тихо и неумолимо увядает».
Если Рот и подтрунивает над Цвейгом, то исключительно в порядке самозащиты, чтобы не утратить уважения к себе, особенно в этом новом костюме, оплаченном его большим другом. Каждый день он носит его на собственном теле, этот подарок, этот символ неполноценности в мире денег. Йозеф Рот об этом пишет в своих книгах. О лоске, о необходимости денег и о том, как проста жизнь в мире, где деньги никогда не кончаются, а идиоты на улице раскланиваются с именитым сказителем.
О том же и книга, которую он только что окончил, вторую половину которой он переписывает в темном углу бельгийского бистро. Это «Исповедь убийцы». История Семена Семеновича Голубчика, выросшего в нищете, без отца, где-то в лесах на родине Йозефа Рота. Настоящий его родитель – богатый, далекий, пылкий князь Кропоткин, который знать не знает об этом сыне, плоде давно угасшей страсти. Голубчик всю жизнь борется за признание, он становится безжалостным осведомителем русской охранки, влюбляется в прелестницу Лютецию, едет за ней в Париж, сорит деньгами и уже не может обходиться без шика, без новых нарядов: «Нужны были наряды для меня и Лютеции, равно как и услужливость портного, снимавшего с меня бережными пальцами мерки в гостинице, словно я был каким-то хрупким божеством, так что моих плеч и ног едва можно было коснуться сантиметром. Именно потому, что я был всего лишь Голубчиком, мне требовалось все то, что было бы обременительно для Кропоткина. Мне были необходимы по-собачьи преданный взгляд портье, согбенные спины официантов и прочей прислуги, иначе бы я не увидел их безупречно выбритые затылки. И деньги, мне нужны были деньги…» [63]
Вторую половину «Исповеди» Рот исправляет вместе со Стефаном Цвейгом. Он читает другу вслух и передает ему страницы корректуры. Работа с Цвейгом вызвала целый вал правок, и Рот вынужден сообщить своему издателю Вальтеру Ландауэру, что «начиная со страницы 65 многое изменено», самые важные изменения в последних двух тетрадках, финал полностью переписан. Он не уточняет, кому обязан этими изменениями, но между прочим упоминает, что Стефан Цвейг тоже в Остенде и хотел бы повидать его, Ландауэра. Рот хоть и вскользь, но с расчетом намекнул на эту возможную встречу, зная, как важен Цвейг, с его бестселлерами и связями, для Ландауэра и для испытывающего затруднения издательства Аллерта де Ланге. И Ландауэр немедленно отвечает: «Было бы хорошо, если бы мы переговорили с господином Стефаном Цвейгом в ближайшую среду».