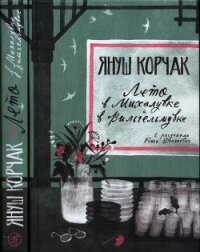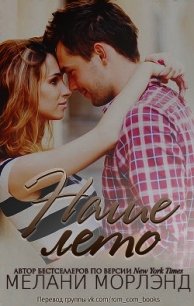Остенде. 1936 год: лето дружбы и печали. Последнее безмятежное лето перед Второй мировой - Вайдерманн Фолькер
С Эткаром Андре ситуация несколько иная. Коммунисты, особенно Киш, внимательно следили за репортажами из зала суда над ним. Андре коммунист, родился в Аахене в 1894 году, после скоропостижной смерти отца воспитывался в сиротском приюте в Бельгии. В Веймарской республике входил в ближайшее окружение Эрнста Тельмана, был одним из любимых вождей рабочих Гамбурга. После поджога Рейхстага его, как и Киша, арестовали. Но, в отличие от Киша, Андре до сих пор оставался в тюрьме. Обвинение: госизмена и покушение на убийство члена СА [50] в Гамбурге. Доказательства абсурдны и скудны. В преддверии Олимпийских игр в стране уже много иностранных журналистов, они освещают судебный процесс и пишут подробные репортажи. В Остенде никто не верит, что его осудят. И вдруг – смертный приговор. Все потрясены.
Этот момент, когда они узнают о приговоре, – один из тех, когда умолкают всякий цинизм и всякое соперничество. Так было после смерти Стефана Люкса. В такие моменты эмигранты осознают полное свое бессилие и всемогущество врагов. Бледная ненависть, страх и надежда на скорое возмездие – вот чувства скитальцев в такие дни. Все они читали последнее слово Эткара Андре в суде. Страсть, гордость, уверенность в себе человека, который не сомневается в своей невиновности. «Ваша честь – не моя честь, ибо нас разделяет мировоззрение, разделяет классовое неравенство, разделяет глубокая пропасть. Если вы готовы исполнить немыслимое и отправить на плаху невиновного, я готов пройти этот тяжкий путь. Я не прошу пощады! Я жил как боец и умру как боец, и последними моими словами будут: “Да здравствует коммунизм!”»
Что тут скажешь? Никто уже не сомневается, что приговор будет исполнен [51]. И в глубине души никто не сомневается, что все кончится скверно. Однако уныние ни в коем случае нельзя показывать. Здесь, у моря, пораженчество равнозначно преступлению.
Вот почему они предпочитают сплетничать. Чем ближе ночь, тем упоительней они злословят и насмехаются. Например, над Клаусом Манном. Хорошо хотя бы (редкий случай), что его здесь нет. Поводом для бесконечных шуток, особенно колких со стороны Кестена, стало сообщение о выходе его нового романа «Мефистофель», опубликованное в Pariser Tageszeitung [52] на первой полосе номера от 20 июня. Все эмигрантское сообщество было в курсе, что Манн написал роман, в котором изобразил в слегка завуалированной форме своего бывшего зятя Густава Грюндгенса [53] как современного оппортуниста. Несколько смущало то, что книгу анонсировали под рубрикой roman à clef (роман с ключом), и имя Грюндгенса услужливо приложили в качестве ключа [54]. За анонсом, однако, последовала телеграмма с категорическим возражением, отправленная в редакцию Клаусом Манном по настоянию его друга и издателя Фрица Ландсхоффа. «Мой роман – это не roman à clef. Герой романа – вымышленный персонаж, не имеющий ничего общего с конкретными людьми. Клаус Манн». Это только подлило масла в огонь, вызвав шквал издевок и насмешек. Сначала откровенно свести счеты в романе, потом громогласно об этом заявить перед публикацией, а теперь беспомощно отрицать – такую гремучую смесь наивности и дерзости искушенные поэты, собравшиеся за столом в Café Flore, простить не могли. Конечно, все они любят этого нетерпеливого, впечатлительного, красивого сына Томаса Манна. Но слишком уж быстро он строчит свои книги, слишком быстро впадает в раж. Буйная голова, драчун, а главное, пафос его книг и в первую очередь «Мефистофеля», который печатается с продолжением в парижской эмигрантской газете, – это как раз то, за что здесь с большим удовольствием перемывают косточки. И только Стефан Цвейг советует не в меру язвительному Кестену просто лично высказать это своему другу Манну.
Кестен этого не сделает. И Цвейг знает почему. Ведь главная причина, по которой Кестен так глумится сейчас над своим другом, выставляя его недотепой, заключается в том, что Клаус Манн написал, собственно, его книгу. Идею, сюжет, персонажей – все это именно Кестен предложил Клаусу Манну в качестве материала для книги еще полгода назад. И тот написал ее с бешеной скоростью, слишком поспешно, считает Кестен, естественно, порицая, но и завидуя. Он никак не может поверить, что Манн так быстро перенес историю на бумагу. И что теперь из-за его бесшабашности, нечуткости, благонамеренной наивности успех всего замысла под большим вопросом.
15 ноября 1935 года Кестен писал Клаусу Манну из Амстердама: «Ландсхофф говорил мне, что вы ищете материал для своего нового романа, а поскольку и я подумываю о новом романе, то, размышляя о том и о сем, придумал нечто для себя, но, как теперь мне кажется, это все же больше подойдет вам, чем мне. Одним словом, почему бы вам не написать роман о карьеристе-гомосексуалисте в Третьем рейхе. Я имею в виду директора имперского театра Грюндгенса, которого вы, как сказывают, уже воплотили в художественном образе (назовем его Директор). На мой взгляд, это должна быть не высокая политическая сатира, а – почти – аполитичный роман, по образцу вечного «Милого друга» Мопассана, благодаря которому ваш дядя обрел восхитительную «Страну кисельных берегов» [55]. Так что никакого Гитлера, Геринга и Геббельса в качестве прототипов, никакого агитпропа, коммунистических «диверсантов», выкрутасов в духе Мюнценберга, но все же и не без убийства, например берлинского актера, имя которого сейчас не припомню. Все это в ироничном зеркале большой, глубоко скрытой, но натурально ощутимой страсти. <…> Итак, это история о том, как в столице становятся директорами.
Думаю, с таким материалом вы прекрасно справились бы, а описание реалий Третьего рейха открыло бы большие возможности. Я говорил об этом с Ландсхоффом, и он со мной согласен».
Теперь, после того как Цвейг воззвал к его совести, Герман Кестен рассказывает всей компании, откуда у Клауса Манна материал для этой книги и сама идея. И когда она появилась.
Это, в свою очередь, побуждает Йозефа Рота рассказать собравшимся друзьям историю о том, как он, поддавшись уговорам Кестена, написал рецензию на его первый роман для Frankfurter Zeitung. Рот прочитал роман и счел его не особенно удачным, а главное, непонятным. Он набросал текст и дал прочитать его Кестену. Последние два предложения гласили: «Я не понимаю этого романа. Возможно, Кестен – великий шутник». Кестен вычеркнул предпоследнее предложение, а в последнем убрал слово «возможно». Так гораздо лучше, сказал он Роту. И тот согласился опубликовать рецензию в кестеновской версии.
«Не будь этого текста, где бы ты оказался сегодня, Герман?» – обращается Рот к сотрапезникам и улыбается. И все улыбаются в ответ. Они знают, что вряд ли найдется писатель, у которого были такие хорошие контакты с рецензентами Веймарской республики и вряд ли кто-то так часто прибегал к их услугам, как Кестен. Они знают также, что Йозеф Рот на самом деле практически не читает то, что рецензирует. Ему не нужно читать книги, чтобы рассказывать о них истории и вкрапливать в них уместные, на его взгляд, суждения. Так он предпочитает писать и о собственных книгах. А под хорошее настроение может даже учинить им разнос.
В эти дни он читает взахлеб «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли. Не для того, чтобы написать об этой книге, просто она совпала с его умонастроением. Она была опубликована четыре года назад на английском и уже вышла на немецком языке под названием Welt – wohin? («Куда идет мир?»). И теперь Рот изводит своих застольников, регулярно выкрикивая цитаты из книги о мире будущего, где слежка – норма, где в фабриках-эмбрионариях выращивают нового человека. «Пилкингтону удалось в Момбасе получить особи, половозрелые к четырем годам и вполне выросшие к шести с половиной. Триумф науки!» [56] Рот горько ухмыляется. И повторяет цитату снова и снова.