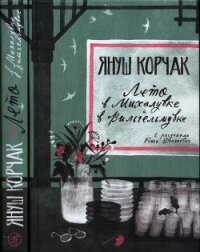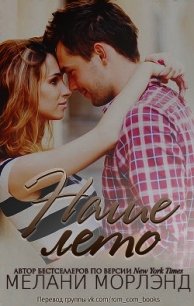Остенде. 1936 год: лето дружбы и печали. Последнее безмятежное лето перед Второй мировой - Вайдерманн Фолькер
В 1933 году ей предложили сняться в нацистском пропагандистском фильме «Ганс Вестмар». Она отказалась и отправилась в изгнание вместе с Эрнстом Толлером. В мае 1935 года, когда ей исполнилось восемнадцать, они поженились в Лондоне.
Всюду, где она с ним, писатели шалеют от ее молодости и красоты. Рассказывают, будто в Ницце Арнольд Цвейг даже забирался к ней ночью в окно. «Должно быть, трудно было бедняге залезть, а потом вылезти, ведь он так толст и совершенно слеп», – говорила позднее Кристиана Граутофф. Похоже, ее не прельщали вечерние эмигрантские посиделки: «Много спорили, иногда поэты читали друг другу свои стихи или пьесы. А я все свои мнения связала в красивые джемперы из ангоры для Э. T. Мне бы нашлось что сказать, и в первую очередь о том, что они очень старые и скучные, что вечно толкуют об одном и том же и никогда не докажут свою правоту. Но они часто оказывались правы, и тогда я вязала чуть быстрее и ошибалась в стежках».
Зато быть на пляже, с Гизелой Киш и Ирмгард Койн, для нее истинное счастье. Все трое – заядлые пловчихи. В погожие дни с ними плавает Эрнст Толлер, гордый атлет, и он заплывает далеко, каждый раз все дальше и дальше, так что Кристиана начинает опасаться за его жизнь.
А он не спускает глаз с нее, он невероятно ревнив. Кроме того, его пугают ее хрупкость, беспечность, доверчивость к людям. Он запретил ей общаться, например, с Эрикой Манн [40]. Она развратна, объясняет он. Напротив, с Клаусом Манном ей общаться позволено – они даже дружат. Но брата и сестры Маннов этим летом все равно нет в Остенде; несколько дней назад они катили по дорогам Испании в спортивном автомобиле со своими друзьями Аннемари Шварценбах [41] и Фрицем Ландсхоффом, загорали на Майорке, на том самом пляже, где этим летом упадут бомбы. Впрочем, Манны могут появиться на любом пляже, где встречается больше трех эмигрантов, но и исчезают они так же быстро, как появляются.
Однако вторая персона, от которой Толлер недвусмысленно хотел отгородить жену, здесь, в Остенде. Впрочем, с этой стороны ревнивый драматург опасности пока не ожидает. Кристиана потом вспоминала: «Мне разрешили видаться с Йозефом Ротом, хотя он был садист. Но, поскольку у него уже была своя жертва, божественно красивая женщина, Э. Т. считал, что мне ничто не угрожает. Он защищал меня и научил видеть людей за их фасадами».
Йозеф Рот – садист? Эгон Эрвин Киш как-то этим летом со смехом сказал: «Зепп всегда ожидает от женщин покорности». Но в случае с Ирмгард Койн Рот просчитался: «Мы едем сквозь мрак, звезды плывут в вышине, едут вместе с нами. Голова моя покоится на коленях Франца. Я должна казаться слабее, чем на самом деле, для того чтобы он мог чувствовать себя сильным и любить меня» [42]. Она написала это в Остенде, в своем романе «После полуночи». Она молодая, сильная женщина и лукавая. Однако эти слова из ее романа могли сказать о себе практически все женщины из их непрерывно растущей летней бельгийской компании. Казаться слабее, чем ты есть на самом деле, чтобы мужчина мог чувствовать себя сильным, – это относится и к тихой Лотте Альтманн, и к Гизеле Киш, и к мудрой вязальщице Кристиане Граутофф. И даже к жене Вилли Мюнценберга, Бабетте, происходившей из семьи крупных буржуа в Потсдаме, красивой, холодной патрицианке, говорившей на «хохдойч» [43], смотревшей на своего тюрингского медведя с тонкой иронией в глазах, но никогда не смевшей возразить ни на одно из его бурных, громких утверждений и требований.
* * *
И опять все они в Café Flore, компания перекати-поле, которые этим летом снова пытаются почувствовать себя отдыхающими. Вновь пытаются казаться беззаботными. В конце концов, что это, как не большое, длинное путешествие в отпуске, затянувшемся на годы? Отпуск вдали от дома, с попутчиками-друзьями в Париже, Ницце, Санари-сюр-Мер, Амстердаме, Марселе, Остенде. А в один прекрасный день они вернутся. Но когда же? Чем насущней этот вопрос, тем реже его задают. И с каждым днем этого отпуска возвращение становится все менее правдоподобным. Все это знают. И помалкивают. В повестке дня – оптимизм. Веревка лежит в чемодане, но о ней ни слова.
Сегодня, как и всегда, они стараются не говорить сразу о политике, не обсуждать сразу плохие новости. Это, однако, не помогает. Оказывается, неполитических тем просто не существует.
Эгон Эрвин Киш пробует забыться в спорте, символом которого в те дни был Макс Шмелинг. [44] Киш знает его и восхищается им давно. Они были соседями в Шармютцельзее под Берлином, Киш присутствовал на многих его поединках, а не так давно издалека следил за тем, как Шмелинг отказался подчиниться требованию нацистов расстаться со своей чешской женой [45] и менеджером-евреем Джо Джейкобсом. И, конечно же, Киш прочитал все, что сообщала пресса о поединке в Нью-Йорке 19 июня, и уже плешь проел всем застольникам своими громкими панегириками. О том, как Шмелинг разделал под орех «коричневого бомбардировщика» Джо Луиса. И главное – как он поразил Америку еще до начала боя, смело, хладнокровно намекнув на слабое место соперника: «I have seen something» [46]. Эта шмелинговская недосказанность приводит Киша в восторг. «Ха! “Я кое-что увидел”. Будто я его консультировал! – кричит Киш. – Скромность, уверенность и загадочность, все в одном предложении! Макс – один из нас». И в сотый раз объясняет всем за столом, что именно увидел Макс: после атаки Джо Луис немного опускает левую руку, и эта маленькая брешь дает шанс для решающей контратаки. После двенадцати раундов несокрушимый Джо Луис нокаутирован, и Киш охотно демонстрирует разящий удар, какой, по его мнению, должен был быть. «А теперь он рекламирует в Америке криминальные Олимпийские игры», – парирует Керстен, пока Киш витает в небесах. Это мигом возвращает их к главной новости последних дней, к подготовке Олимпийских игр в Берлине. Весь мир съедется в столицу Германии. Режим уже несколько недель прихорашивается, избавляется от уродливых одежд ксенофобии и юдофобии, чтобы предстать миру цивилизованным государством, приверженным интернациональной дружбе. Все таблички «Евреям вход запрещен» убраны. «Слышали? – спрашивает Толлер. – Der Stürmer [47] уже месяц подвергается цензуре. Вычищают антисемитские пассажи». «Превосходно! Значит, теперь они продают чистую бумагу!» – ерничает Рот и горько улыбается.
По правде говоря, за этим скрывается их главная тревога: этим летом в Берлине мир будет одурачен. Геббельс убедит мир в сугубо мирных намерениях нацистского режима. Усыпит мировое сообщество и укрепит его веру в безобидную Германию. Англия уже объявила о намерении сократить свои военно-морские силы. Лига Наций отменила санкции, наложенные на Италию после абиссинского конфликта [48]. Италия Муссолини торжествует. И Германия вместе с ней.
Мир желает быть убаюканным, чтобы жить в мире. И маленькая группа в Остенде ненавидит свое бессилие, ненавидит до отчаяния.
Они предпочитают не говорить о новости, пришедшей в начале месяца из Женевы [49]. Во время Генеральной ассамблеи Лиги Наций чешский журналист, еврей Стефан Люкс покончил с собой. На пленарном заседании, на глазах у всех. В знак протеста против бездействия Лиги и всего мира перед лицом преступлений, совершаемых в Германии. На миг мир содрогнулся от ужаса, потом наступило легкое отвращение к фанатизму, сменившееся пожатием плечами, и дальше все своим чередом. Разоружение, переговоры и подготовка к Олимпиаде в Берлине. Кошмар продолжается. Самоубийство как предупреждение на этот мир не действует. Нет, никто не хочет говорить о Стефане Люксе этим летом.