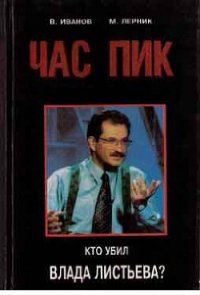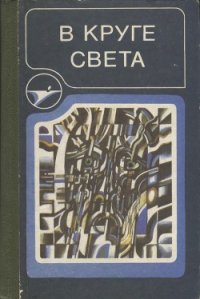Пархоменко (Роман) - Иванов Всеволод (список книг .TXT) 📗
После девушки посетили двух белогвардейских офицеров, работавших кочегарами на Данишевском заводе, который использует житомирские железные руды. Молодые люди показались Штраубу смышлеными, а их кочегарская работа — очень нужной: можно будет в тылу противника поставить их кочегарами на какой-нибудь паровоз…
Штрауб оживился. Вялость исчезла…
— А вот это наша знаменитая школа подрывников, — сказал Барнацкий. — Ривелен осмотрел ее подробно и одобрил.
Школу окружал большой заросший бурьяном пустырь. Инструктор инженер-подрывник показал многие весьма любопытные вещи, в том числе подрывные трубки, сделанные в виде хлебных лепешек, небольшие мины, вделанные в колеса для телег или в самовары. Все эти взрывчатые снаряды имитировали крестьянскую или мещанскую утварь и казались такими простыми и скромными. Под конец инженер показал склянки с бактериями, привезенные Ривеленом. Цветков, морщась и махая крупными, потрескавшимися от земли руками, начал убеждать вдруг Барнацкого, что напрасно подрывников учат вместе. Нужно учить поодиночке!
— Вас вот учили в одиночку, а что толку? — грубо сказал Барнацкий. — Пошли в тюрьму. Нас ждут.
Тюрьма была переполнена так, что не нашлось ни одной одиночной камеры, где бы можно было вести разговор с арестованными. Даже квартира смотрителя была занята, и он жил в городе. Поэтому решили осмотреть арестованных бегло, с тем чтобы выбрать тех, с которыми следовало говорить отдельно.
В обычное время тюрьма вмещала триста — четыреста арестантов. Сейчас в ней сидело не менее двух с половиной тысяч. Заключенные лежали, тесно прижавшись друг к другу, заполняя двойные и тройные нары и пол. Те, которые считались менее важными преступниками, лежали связанные или скованные на соломе, прямо под открытым небом, заполняя весь двор тюрьмы. Пахло грязным человеческим телом и еще какой-то острой и отвратительной вонью, от которой мутило в голове.
— Тут и гулять негде, — сказал Штрауб смотрителю тюрьмы.
— А зачем им гулять, пане? Они уже нагулялись. Остается последняя прогулка, так они на нее не спешат, пане.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Пробравшись сквозь коридор, наполненный больными, которые стонали на полу, Штрауб остановился на пороге и осмотрел тюрьму. Она была такая же, как и остальные, — тусклая и вонючая. «Очень интересно», — услышал он за собой шепот Веры Николаевны. И он подумал: «Эта женщина начинает действовать мне на нервы. Что она начала изображать из себя какую-то Марию Медичи?»
Смотритель тюрьмы громко спросил:
— Пришла комиссия. Есть претензии?
Штрауб тех, кто говорил смело или жаловался, выслушивал нехотя, прерывая на середине фразы: «Подайте письменное заявление», но тех, кто низко кланялся или у кого можно было заметить испуг, он записывал.
Так отобрали человек сто. Пока в канцелярии пили чай, отобранных, по списку Штрауба, под разными предлогами, повели в город. Понурые фигуры шли, как-то особенно болезненно ступая на пятки, должно быть уже отвыкнув ходить.
Смотритель бормотал Барнацкому:
— Плохо, пане Барнацкий! Надо их стрелять, а вы не распоряжаетесь. Врачей у нас нет, а они могут тиф перенести в армию. Вы сами из «Шляхты смерти», и знаете, что иногда смерть надо и поторопить.
— Поторопим, пан смотритель.
— Поторопим, но когда?
— Когда, когда? Вот этих, которых увели, просмотрим, а остальных можно и… в общем, даю слово, что не задержу, пан смотритель.
Первый разговор произошел с маленьким пареньком — видимо, больным чахоткой, с ввалившимися серыми глазами и большим узким ртом. Паренек служил писарем в житомирском военном комиссариате.
— Партийный? — спросил его Штрауб.
— Партийный, — ответил тот жиденьким тенорком, явно робея и больше всего, пожалуй, трепеща, что дальше совсем оробеет.
— Хочешь искупить свою вину?
— Да никакой и вины-то нет. — И он пожал худенькими плечами. Рубаха подмышкой рваная, и сквозь прореху видно грязное, изъеденное насекомыми тело.
Барнацкий коротко, насколько он мог вразумительно, изложил пареньку, чего от него хотят. Паренек научится взрывать, его выпустят, переведут через фронт, и он опять будет состоять в партии, а затем, когда ему укажут, в нужный момент он взорвет нужный объект. Только и всего. Паренек дал договорить Барнацкому до конца, вздохнул и сказал, разводя руками:
— Никак это невозможно, гражданин.
— Почему?
— Характер у меня неподходящий.
— Характер укрепим.
Паренек помотал головой и, как бы ища мысленно какой-нибудь лазейки и так и не найдя ее, замолчал.
Штрауб глядел на его острый, выдающийся вперед костлявый подбородок, и ему казалось, что из этого паренька, если его поднаправить как следует, выйдет приличный подрывник. Паренек сплюнул, растер босой ногой плевок, в котором отчетливо видны были кровавые жилки, и застенчиво проговорил:
— Никак не получится.
— Семья есть?
— Мамаша, две сестры. Из себя я холост, — добавил паренек. — Девки не гонятся, а мне за ними гоняться дыхание не позволяет.
— В случае отказа расстреляем не только тебя, но и семье твоей грозит опасность, — сказал Барнацкий.
На щеках паренька показались два розовых пятна. Они постепенно росли, поднимаясь к скулам. Он опять сплюнул и сказал:
— Никак невозможно. Да и присягу я давал все-таки. — Он вытянул вперед бледную тощую руку и сказал: — Не волнуйте вы себя, гражданин, не уговаривайте. Ну что поделаешь, если не получается!
Барнацкий постучал карандашом о стол. Бережно отодвинув зеленую с помпошками портьеру, вошел рослый жандарм, моргая напряженными глазами и вытянув вперед губы. Барнацкий велел увести арестанта и привести следующего.
Следующий — медленно шагавший крестьянин в длинном измятом пиджаке домашней работы — вошел, подозрительно оглядываясь. Он председательствовал когда-то в сельисполкоме поблизости от Житомира и в списках контрразведки числился коммунистом, хотя и отрицал это. Сейчас его, видимо, заботило, поймут ли его допрашивающие, так как допрашивали редко и прошлый раз его не поняли, и еще его заботило, что у него нет гребешка причесать волосы, а он считал, что в присутственных местах нужно ходить причесанным. Мужик он был хозяйственный и в председатели пошел лишь потому, что думал получить лучший земельный участок и вспахать пашню машиной, какие он видел в Германии, где был в плену и откуда бежал, тоскуя по земле и семье. Сидя в тюрьме, он узнал, что поляки возвращают землю помещикам, что работают такие комиссии, и сейчас, думая о допросе, он надеялся узнать что-нибудь о работе этих комиссий. Особенно ему хотелось узнать, какую же часть урожая с поля, которое он вспахал, удастся ему получить.
Внимательно выслушав вопрос Барнацкого и ничего не поняв, он обратил к Штраубу свое лицо. Худая, покрытая редкими волосами голова Штрауба внушала ему доверие, и он подумал: «Адвокат, должно, и сообразный, вон как прямо сидит, все замечает». И он сказал:
— Никого силой участок свой пахать я не заставлял. Поступал по справедливости. Своей семьей пахал. Мой пот на нем взошел, и от своего пота отделять помещику мы не согласны. — И он торжествующе и задорно оглядел комнату, как бы выжидая, что выйдет кто-то и будет с ним торговаться.
— Вопрос тоже идет о земле, но совсем по-другому, — сказал Штрауб. — Ты грамотный?
— Подпишем, если что понадобится, — ответил мужик и, видя, что его плохо понимают, повторил Штраубу, что он засеял поле своим зерном, которое выменял на последние тряпки, оставив жену с одной юбкой и отдав дедовские еще две подушки и перину. — Ничего в доме не осталось, а тут на тебе: отдавай землю помещику.
Он сжал руку в кулак и вежливо добавил, чтобы не сердить господ:
— Землю взяли, отдать никак нельзя.
Тогда, подлаживаясь под мысли мужика, Штрауб сказал:
— Ты эту землю навсегда получить сможешь.
— Как же так? — подозрительно глядя на Штрауба, спросил мужик.
— Заработать ее.