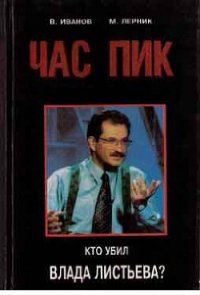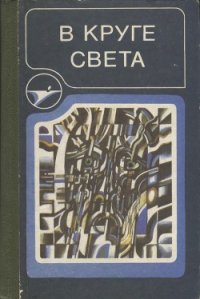Пархоменко (Роман) - Иванов Всеволод (список книг .TXT) 📗
— Господа! Некоторые из вас думают, что получают деньги за то, чтобы спасать Польшу. Не Польшу! Польша и без вашего внимания вышла бы из любого затруднения! — сказал он с силой и даже слегка стукнул по столу. — Вас пригласили вытаскивать всю цивилизацию, которой грозит гибель от большевиков. Мы знаем ваши биографии и не преувеличиваем ваших положительных качеств. Но мы, мы, говоря в смысле всемирном, — мы считаем, что если человек тонет, то неважно, кто его тянет из воды: злодей или добродетельный человек. В данное время важно спасение.
— Чье? — развязно спросил чернобровый красавец Фармиано: ему не нравился тон ротмистра.
— И ваше в том числе! — сказал ротмистр. — Чье?! Спасение мира! Бога! Католичества! Собственности! Семьи! Любви!..
Ротмистр устал от восклицаний, произносимых полным голосом. Понижая свой баритон, он сказал:
— Я новичок в вашем деле, господа. Я — строевой солдат, временно назначенный самим паном Пилсудским для проведения важнейших действий в тылу противника. И, как солдат, я не буду стесняться в выражениях. Пан Пилсудский сказал: «Руби по-моему!» И я буду рубить.
Он наклонился и, вытягивая руку над зеленым пространством огромного стола, сказал:
— Я должен рубить и ради цивилизации и ради собственного чувства мести! Большевики меня разорили. Мой отец имел некоторые средства, весьма солидные. Все отнято! Когда я стал говорить, что это безобразие и за это надо уничтожать, уничтожать!.. — меня в Москве арестовало Чека. Я вырвался, бежал, снабженный достаточным количеством ненависти, которая била так же, как моя пуля. Моя пуля била и русских, и украинских, и польских большевиков. Большевизм говорит, что он — интернационален. Моя пуля еще более интернациональна!..
— Пуля, обернутая в доллар? — спросил худой старик с длинными белыми волосами, с еще более седой бородой, темным лицом и узкими мутными глазками. Он похож был на богатого прасола, одет по-крестьянски, но несколько щегольски. Он говорил, слабым старческим жестом приложив ко лбу руку козырьком.
— Именно, в доллар! — подхватил Барнацкий. — Да, да!
— Следовательно, основное направление будет идти по линии коммунизма как наиболее для нас вредной?
— В свое время я скажу вам, куда тактически будут направлены силы агентуры, — сказал Барнацкий. — Сегодня мы говорим об общем направлении. И о том, кто его направляет.
— Я уже сказал, кто, — проговорил худой старик. — Есть ли необходимость уточнять это? Каждый из присутствующих здесь агентов получил обертку, которая довольно ясно говорит, кто в его пуле заинтересован. Он понимает, что в игру вступила «Великая Заокеанская Мать Польши»…
— Да, да! Мать, — растроганно сказал Барнацкий. — Вы хорошо говорите, Осип Григорьевич!
— Мать эта — добра. Но и строга. Она требует от нас не только хороших разговоров, но и хороших действий. Вы любите цивилизацию, хотите ее спасать? Пожалуйста. Вы хотите получить за это спасение деньги, — что ж, мы не безденежны и платим — пожалуйста! Но действуйте, помогайте друг другу, — мы для этого вас созвали всех, — знайте друг друга. Но действуйте же, черт возьми!
Глаза Веры Николаевны были устремлены на старика, губы ее, казалось, шептали его слова. И опять нехорошо стало Штраубу. Старик же продолжал говорить своим слабым голоском, многозначительно и хитро улыбаясь:
— Предполагается, что в ближайшее время Заокеанская Добрая Мать выступит с международной акцией, которая вполне исчерпывающе и ясно скажет всему миру, что отныне Добрая Мать, продолжая свое снабжение вашей страны оружием и продовольствием, превращается в неутомимого руководителя ваших идей, замыслов, всего вашего воображения. Дело в том, господа, что Европа, после того как большевики разгромили Колчака и Деникина, несколько охладела, оружие ее стало тупиться. Англия скрытно ведет переговоры о торговле с Советской Россией. Италия — тоже. Германия давно бы торговала, будь у ней чем торговать!.. Только одна Заокеанская Добрая Мать остается и останется Мстящей Матерью. Месть ее будет безжалостна, многолетня, — и горе тем, кто не будет послушен этой мести, господа!
Старик, устав, замолчал.
Барнацкий кивнул ему головой и сказал:
— А сейчас, господа, я изложу вам, в чем заключается наша программа и почему мы считаем этот участок фронта — важнейшим. И будем считать его важнейшим, даже если большевики на другом участке двинутся к Варшаве!..
И, помолчав, добавил:
— На эти слова у меня есть санкция самого глубокоуважаемого пана Пилсудского!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Когда ротмистр Барнацкий истощил все свое красноречие, раз десять упомянув имя Пилсудского, и еще раз подробно описал свой арест в Москве, собравшиеся начали расходиться. Лица у них были встревоженные. Худой и седоволосый старик переходил от одного к другому, раздавая какие-то пакетики из толстой серой бумаги. Последним он подошел к Штраубу.
— Будем знакомы, господин Штрауб. Здравствуйте, госпожа Быкова. Осип Григорьевич Ривелен, по кличке «Таган».
И он сказал, ласково глядя на Штрауба своими мутными глазами:
— Завидую. Сам бы с вами поехал в Конармию, кабы не старость…
— Но я не уверен, ехать ли мне? — сказал Штрауб. — Меня на Украине знают. Я долго жил у анархистов. Вдруг какой-нибудь знакомый перейдет к красным?
— А вы, голубчик, потрудитесь. Можно так изменить себя, что и мать родная не узнает.
— Узнала бы лишь Заокеанская, — проговорила, улыбаясь, Вера Николаевна. Старик продолжал:
— Очень завидую. Почетно. Подумайте, — уничтожить одного-двух большевиков-командиров, ближайших помощников Ленина! Это половина советской власти! А там, глядишь, и до второй половины доберетесь. Я за вами давно наблюдаю, господин Штрауб. Вы — многообещающий. Вы медленно и долго собираетесь, но зато — удар, и все кончено! Вы более, чем кто-либо, поняли смысл и практику «комнатной войны».
— Какая же это «комнатная»! — сказал с раздражением Штрауб. — Восстание организовывать! Вести войска самому вперед! Напасть на штаб юго-западного фронта!..
— Но ведь в этом и заключается вся философия жизни, как вы утверждаете, дорогой! Нажать, как на кнопку, в важнейший момент на важнейший пункт истории. Нажали — и для вас распахиваются двери славы! Нет, нельзя вам не позавидовать, дорогой. Так, Вера Николаевна?
— Сам того не зная, он сам себе завидует, — ответила, широко улыбаясь, Вера Николаевна.
Старика ждал у подъезда одетый в мужицкую свитку, лопоухий, обросший бородой, которая, однако, не прикрывала большого рта, помощник. И хотя было светло, у ног его стоял фонарь с толстой свежей свечой.
— Еще познакомьтесь, — сказал старик. — Цветков, дворянин, офицер. Его отец — виднейший деятель польско-украинской федерации, удостаивающий меня дружбой. А сынок — тоскует по дочкам. Так?
Цветков со злостью поднял на старика глаза, но ничего не сказал.
— Господин Цветков будет держать связь между мной и вами. И здесь, и преимущественно в тылу Красной Армии. Я, знаете, все-таки поеду через фронт. Очень уж завидую вам, господин Штрауб. И хочу посмотреть ваш козырный удар. Прощайте-ка покамест.
Старик приподнял шапку и свернул в переулок.
Цветков шел, опустив голову и глядя в землю.
— Я укажу вам гостиницу, — сказал он вздыхая. — Могли бы, конечно, и без меня найти, но уж больно я рад свежему человеку. Как там, у большевиков?
— Я от Махно сейчас, — сказал Штрауб.
Цветков шумно вздохнул, махая перед собой фонарем:
— Кому смех, кому слезы. И он и отец мой смеются, что я люблю своих дочек, а мне непонятно — как не любить? Вот объясните вы мне, как можно не любить, когда народил их семерых? А нас ведь у отца-то семеро!
— Неужели семеро? — спросила Вера Николаевна и подошла поближе к Цветкову. Но от него сильно разило самогоном, и она отодвинулась.
— Семеро! И не любит ни одного. А у меня — две дочки, и младшую Кларой зовут… и у него — главный козырь они…
Сделав несколько шагов и думая все об одном и том же, Цветков продолжал, взмахивая фонарем: