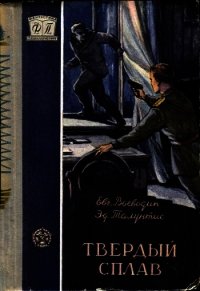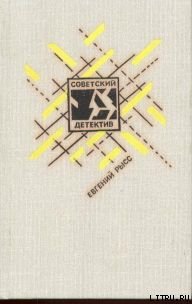Буря - Воеводин Всеволод Петрович (книга жизни .txt) 📗
— А много вам приходилось встречаться с купцами? — спросил Овчаренко.
— Да приходилось, — сказал Свистунов. — Я, правда, года с четырнадцатого или с пятнадцатого, когда у нас появились тральщики, пошел в матросы. Ну да ведь раньше были судовладельцы. Всё равно те же купцы. Вы видели прежние тральщики?
— Нет, — сказал Овчаренко. — Не видел.
— Комедия! Маленькие, как боты. Общий кубрик поменьше этой каюты. Тут и столовая и восемь коек, чтобы спать по очереди. Тральщик сам деревянный, пузатый; грязища — ужас. Особенно тараканы нас донимали. Трудно поверить, сколько тараканов ползало. А судовладелец был, он же и капитан, некто Лощинин. На редкость жестокий был человек, но, правда сказать, и себя не жалел. Крепыш, такой коренастый, ростом, пожалуй, с Балбуцкого, а плечи необъятные. Был пьяница, но не пьянел. В рейсе две бутылки в день осушал — и хоть бы что. Боялись его у нас ужасно. Чуть что не по его, он так трахнет — только держись. Говорят, не знаю, правда ли, он одного насмерть зашиб и потом за большие деньга от суда откупился.
— Это верно, — вмешался кок, — я тоже слышал.
— Да ты же знаешь, — сказал Свистунов, — Лощинин Иван. А тральщик назывался «Наживка». У нас ещё служил матрос один, Синяков, тоже страшной силищи был человек. Вот он один только и не боялся Лощинина. И странное дело, — другой только пикнет, уж тут целый скандал, а от Синякова всё терпел. Мы, бывало, спрашиваем: «Как это ты, Синяков, не боишься?» А он говорит: «Подумаешь, я бы захотел — сам хозяином стал. Мне только противно». Пил тоже здорово этот Синяков. На этой почве у них, между прочим, с Лощининым история вышла. Однажды нам в рейс идти, а Синяков на борт пьяный пришел. Лощинин, как увидел, обозлился. «Сейчас же, — говорит, — раздевайся и в воду. Купайся, пока не протрезвеешь». Что будешь делать? Мы стоим, слово сказать боимся. А дело было ночью, не то в марте, не то в апреле. Луна светит, и на воде льдинки плавают. Синяков разделся, вещички сложил и по всем правилам с борта в воду. Лощинин на мостике стоит, трубку курит, поглядывает. «Ну ладно, — говорит, — вылезай, довольно». А Синяков ему кричит: «Что-то не хочется мне вылезать, я еще на льдинке погреюсь». Вылез он на льдинку и лежит на белом льду, голый, под луной, загорает, как тюлень. Тут уж Лощинин испугался. Всё-таки он понимал, что мы сейчас хоть и молчим, боимся, а уж на суде-то молчать не станем. А дело всё-таки такое, что могло ему дорого обойтись. «Синяков, — говорит, — вылезай». — «Да нет, — отвечает Синяков, — чего мне, Иван Тимофеевич, на судно лезть, мне здесь лучше». Лощинин замолчал, зашагал по мостику — трубкой дымит. А Синяков плещется в воде. Молчал Лощинин, молчал, но, видно, ему невтерпеж стало. Пошел он к борту и уж совсем другим тоном говорит: «Прошу я тебя, Синяков, вылезай, пожалуйста». — «Да что ж, — говорит Синяков, — пожалуй, вылезти можно. Два стакана коньяку дадите?» — «Дам». — «И будить не будете, пока не просплюсь?» — «Не буду». — «Эх, — говорит Синяков, — поплавал бы ещё, да коньячку хочется». Взял конец и вылез. Он совсем синий вылез, выпил коньяк залпом, пошел в кубрик, повалился и сутки проспал. За весь рейс Лощинин с ним двух слов не сказал, а когда пришли в порт, позвал его и говорит: «Уходи ты от меня, Синяков. Нельзя нам с тобой на одном судне находиться». Синяков вещички собрал, рукою помахал и ушел.
— Да, — сказал кок, когда Свистунов откинулся назад и закурил, показывая этим, что рассказ кончен. — Этот Лощинин был отчаянный тип. Он, между прочим, интересно разбогател. Тут у нас ходили из Архангельска в Кандалакшу два парохода, одинаковой постройки: «Царь» и «Царица». И капитаны этих пароходов были отчаянные враги. Вечно у них между собой были какие-то недовольства. Вот, наконец, встретились эти два парохода в море. А капитан на «Царице» был, надо заметить, совершенно, вдребезги пьян. Вот он начинает с мостика в мегафон честить «Царя». «Царь» тоже в долгу не остается, и идет ругань на всё Бело море. Наконец капитан «Царицы» дает команду, и «Царица» со всего маху наддает «Царю» в бок. «Царь», конечно, охнул и стал тонуть. Тут на «Царице» команда опомнилась, связали капитана и стали спасать кого можно. А между прочим этот Лощинин был в то время самым что ни на есть мелким промышленником, имел две шнеки, сдавал их в аренду и никаким случаем не брезгал. Ехал он в третьем классе, стоял у борта и помогал пассажирам с «Царя» переползать на «Царицу». А на «Царе» ехал один богатейший купец и вез в чемодане деньги из банка, чтобы скупать рыбу. Ехал он в первом классе, в каюте с семьей. Ему бы семью спасать, а он на первый случай занялся чемоданом с деньгами. Вынес и просит: «Примите, пожалуйста, на «Царице». Лощинин тут подвернулся, принял чемоданчик, а купец побежал за семьей. Только пока он бегал, «Царь» пошел ко дну, а чемодан у Лощинина остался. Правда, кое-кто видел, но доказать было нельзя. Только слухи ходили. А Лощинину, извините, плевать на слухи. Он с этого чемодана сразу и разбогател.
Кок покрутил усы и замолк. Матросы обсуждали странную историю богатства Лощинина, крепкий характер упрямого шутника Синякова, нравы, которые были, но в которые трудно поверить. Я наслаждался на верхней койке теплом и покоем, и мне даже не очень хотелось спать. Я свесил голову с койки, чтобы спросить, который час, и чуть не свалился вниз. Койка дрогнула подо мной, с потушенного примуса свалилась сковорода. Я увидел, как резко качнулась висячая керосиновая лампа и черные тени заскакали по стенкам, по койкам, по лицам. Дверь распахнулась, все обернулись, но за дверью никого не было. Овчаренко захлопнул дверь. Все молча прислушивались и ждали. Но лампа, покачавшись, успокоилась, и тени снова лежали неподвижно.
— Да, — сказал Овчаренко, продолжая разговор. — Иногда интересно послушать о прежних хозяевах. Много было из них диких и странных людей.
— Простите, — спросил я, свесившись с койки, — это что же, — судно волной двинуло?
Все повернулись ко мне, и на лицах моих товарищей я прочел недовольство. Казалось, они хотели бы не слышать моего вопроса. Мельком взглянув на меня, они отвернулись, и только Овчаренко задержал на мне пристальный взгляд.
— Вы о чем? — спросил он. — Вы о толчке? Волной, конечно. Сейчас ещё ничего. Потом толчки посильнее будут. Без этого на банке нельзя.
Он нарочно не сказал, что это, мол, безопасно, что это ничем не угрожает, что, пока волны сбросят судно с банки, нас наверняка снимут. Он не говорил всего этого для того, чтобы я не подумал, что он меня успокаивает. Он сказал безразличную фразу, чтоб я подумал: вот человек, понимающий больше меня, не придает толчку никакого значения, — значит, и в самом деле всё в порядке.
— Оно и лучше, — сказал я, — а то без толчков как будто и не на море.
Это была наивная хвастливая фраза. Конечно, она не могла заставить Овчаренко подумать, что я поверил ему и совершенно ничего не боюсь. Но она говорила нечто другое и, может быть, более важное: Слюсарев понял, говорила она, что опасность есть, но так как помочь ничем всё равно нельзя, лучше поддержать видимость благополучия. Лучше каждому делать вид, что он не понимает и не знает опасности или, по крайней мере, не хочет, чтобы другие знали о ней. Это дисциплинирует всех и его, Слюсарева, в первую очередь. Я как бы примкнул к соглашению, существовавшему уже раньше между всеми находившимися на судне.
Я так подробно излагаю внутреннее содержание короткого и как будто мало значительного разговора между мною и Овчаренко потому, что понимание не только этого, но и многих других разговоров, происшедших за время шторма, сыграло немалую роль в формировании моего характера. Разумеется, многое, в том числе и этот разговор, я понял значительно позже, но чувствовал, и чувствовал верно, я его уже и тогда.
— Сейчас, — сказал кок, возвращаясь опять к разговору о хозяевах, — как будто и пугаль вся прошла у народа. А в прежнее время у такого хозяина все как под гипнозом ходили.
— А у нас в селе, — вмешался вдруг Полтора Семена, — один на базаре всех кур загипнотизировал.