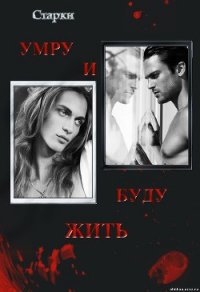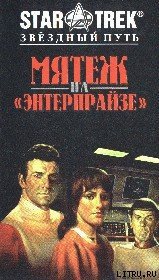Короли Вероны - Бликст Дэвид (полные книги txt) 📗
Пройдя под навесом из мечей, мальчик поднял лук и выпустил стрелу вверх. Зрители, задрав головы, следили за полетом стрелы, прикидывая, на чью злополучную голову она опустится. Когда взгляды снова устремились на Арену, там уже не было ни всадников, ни маленького Мастино – они словно испарились. На месте мальчика, словно из-под земли, на боевом коне и в полном снаряжении вырос Кангранде. На нем были лучшие доспехи; знаменитый шлем, украшенный собачьей мордой, он держал на коленях. Два свитка в левой руке символизировали власть Кангранде над купцами. В правой руке Скалигер сжимал меч. Голову его украшал лавровый венок, говоривший о победе над падуанцами.
Зрители подались вперед. Чаша Арены наполнилась криками «Да здравствует Кангранде!» и прочими выражениями радости; многие верноподданные даже ногами топали от счастья. Кангранде легко спешился и преклонил колени перед толпой. Появился священник, тот самый, которому два часа назад исповедовался Пьетро. Зрители притихли и с благоговением выслушали молитву Деве Марии и Ее Сыну. Едва стихло эхо молитвы, Кангранде поднялся с колен и выбросил вперед огромный кулак.
– Пусть начнутся празднества!
Толпа разразилась воплями одобрения, а Кангранде удалился, уступая место актерам.
В центре Арены устроили импровизированную сцену, и восход солнца совпал с началом первого представления. Сегодня играли не мистерию, а непристойную пьесу Аристофана о том, как афинские женщины штурмом взяли Акрополь и предъявили своим мужчинам ультиматум: либо они прекращают воевать, либо всю оставшуюся жизнь проведут в вынужденном воздержании.
– Не самая подходящая пьеса для Великого поста, – заметил Данте.
– Если не расценивать вопрос о воздержании как уступку Церкви, – добавил Пьетро.
Поко прыснул.
– Я слышал, Кангранде заказывал что-нибудь полегче да попроще.
– Это говорит не в его пользу, – фыркнул Данте. – Боже! Что они делают с текстом!
На сцене было человек двадцать мужчин, большинство одетые женщинами (актерское ремесло считалось недостойным, и в тех частях света, где на сцену допускали женщин, слова «актриса» и «шлюха» были синонимами). Некоторые «девушки» щеголяли длинными бородами, видимо, для того, чтобы напугать «афинских мужчин». Актеры говорили очень громко, но к диалогам никто не прислушивался – зрители наперебой указывал и на огромные бутафорские груди «афинянок».
На трибунах поднялась суматоха, когда Кангранде прошел на свое место и сел рядом с донной Джованной. Пьетро заметил, что под доспехами на нем то же платье, что было ранним утром в часовне. Актеры тотчас стали играть исключительно для Скалигера, посылать ему воздушные поцелуи и выражать свою любовь самыми разными способами. Хозяин Вероны с готовностью отвечал на эти знаки внимания, вызывая восторг зрителей, – все знали, как Кангранде любит актеров.
Одна «афинянка» с огромным букетом цветов, не забывая о нежных речах, стала карабкаться на балкон, где сидел Кангранде. Капитан нарочито скромничал, однако покачивался в такт любовной песне о разбитом сердце. В конце концов он принял букет из рук «поклонницы».
– Поцелуй меня, возлюбленный! – попросила «девица».
Кангранде извлек из-под кресла бутыль и вылил ее содержимое на голову «афинянке». «Афинянка» принялась отплевываться, затем облизала губы и выкрикнула:
– Славный год!
Толпа одобрительно загудела. Кангранде бросил актеру монету и, поколебавшись, вручил цветы своей жене. Представление продолжалось.
– Забавный спектакль, – осторожно сказал Пьетро, покосившись на отца.
Данте покачал головой.
– Бедный Аристофан. Если бы кто-то позволил себе подобные вольности с моим произведением, я бы восстал из мертвых и оскопил нечестивца.
– Это и было бы настоящее contrapasso, – пробормотал Пьетро.
Отец не смог сдержать улыбки.
Супруга Кангранде делала вид, что не понимает, в чем соль сценки с «поклонницей». Впрочем, возможно, ее раздражали некоторые из гостей мужа. По правую руку от Джованны, например, сидела донна Катерина да Ногарола – правда, между двумя женщинами Кангранде предусмотрительно усадил Баилардино. Катерина вела себя как ни в чем не бывало – веселая, оживленная, она явно получала удовольствие от трюков, которые проделывали жонглеры.
По крайней мере, Капитан не притащил сюда своего бастарда. Люди уже в открытую называли ребенка его наследником. Если у Кангранде не будет законного сына, говорили они, наследником станет сын незаконный. О, как они жонглировали этими двумя словами – «законный» и «незаконный»! Словно эти вот презренные комедианты – своими шариками да булавами!
Пьетро заметил, что Джованна старательно избегает взгляда Катерины, в то время как Кангранде мило беседует с Баилардино, перегнувшись через жену. Джованна демонстративно говорила только с семейством Бонаццолси – с Пассерино, с его братом Гвидо и с женой Гвидо, Констанцей, урожденной делла Скала – старшей сестрой Кангранде и Катерины.
Остальные родственники Кангранде также были на виду. Сразу за донной Катериной сидел Чеччино, тот самый, со свадьбы которого Пьетро ускакал в Виченцу. С самодовольной улыбкой Чеччино держал за руку свою молодую жену. Говорили, что она уже беременна.
За молодой четой сидели малолетние племянники Скалигера, Альберто и Мастино. Альберто с живым интересом следил за представлением. Мастино, напротив, прислушивался к разговорам взрослых. За две недели, что Пьетро провел в непосредственной близости от семейства делла Скала, мнение его о младшем племяннике Кангранде не изменилось – мальчик был ему крайне неприятен. Первое впечатление оказалось верным. Мастино любил пошалить, причем шалости его были подчас жестоки, вину же он все время сваливал на старшего брата, добродушного и забывчивого Альберто. Не важно, какое по счету наказание нес Альберто за проступок Мастино – никто не сомневался, что и в следующий раз он попадет в ту же ловушку. Слуги, жалея старшего мальчика, но и не упуская случая посмеяться над ним, прозвали его Забыльберто.
Пьетро всматривался в окружавшие его лица. Он уже неплохо знал родственников и друзей Скалигера. Прямо перед ним сидели Николо да Лоццо и Гульермо да Кастельбарко. На обоих были латные воротники, словно они приготовились к бою. На самом деле Лоццо и Кастельбарко просто следовали французской моде. Они кивнули Пьетро, тот кивнул в ответ.
– Вот щеголи, – кашлянув, проворчал Данте.
С другой стороны галереи, в первом ряду, довольно далеко от Пьетро, сидели Джакомо и Марцилио да Каррара. Без сомнения, Кангранде пригласил их из политических соображений, однако старший Каррара от души радовался представлению. Марцилио, как всегда, злобно косился из-под роскошной темной шевелюры. Пьетро опять с горечью вспомнил о несостоявшемся выкупе – он вырос в бедности и не мог не жалеть о потерянных деньгах.
Развернувшись на скамье и пробежав глазами верхние ряды, Пьетро наконец заметил Марьотто. Семейство Монтекки расположилось на ряд ниже падуанцев.
«Воображаю, как бесится по этому поводу Мари».
Молодой Монтекки нарядился в пурпур и серебро, перо же на его шляпе было белоснежное.
«Наверно, лебяжье».
Пьетро знал, что отлично выглядит в новом платье, а тем более на костыле; знал он также, что и в подметки не годится Марьотто – тот, даже если бы напялил рубище, все равно остался бы самым красивым юношей в Вероне.
Слева от Мари сидела его сестра Аурелия. Они были очень похожи – оба темноволосые, у обоих несколько продолговатые лица и большие выразительные глаза. Однако Аурелии, к сожалению, было далеко до брата, красота которого прямо-таки била в глаза. Девушка держалась очень прямо; с ее лица не сходила открытая улыбка.
Справа от Марьотто восседал Монтекки-старший. Он вел беседу с крупным румяным мужчиной, щеки которого испещряли лопнувшие сосудики. В отличие от синьора Монтекки, одетого скромно, но дорого, на незнакомце все топорщилось, сверкало, переливалось, пушилось; дело осложнялось тем, что кружева, парча и меха вели беспощадную и заведомо бессмысленную борьбу за господство на территории одного наряда. Мужчина рисковал сгинуть в многообразии оттенков и фактур; к счастью, при его габаритах это было практически невозможно. Никакая парча не могла затмить блеск его глаз – знакомых, как ни странно, глаз. Мужчина откинул голову и разразился хохотом, и Пьетро догадался: вот таким будет Антонио лет через двадцать—тридцать. Догадку его подтвердила соломенная шевелюра, неловко прикрытая шляпой пурпурного цвета – шевелюра возбужденно кивала в такт словам Марьотто.