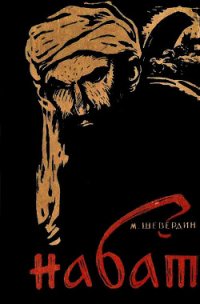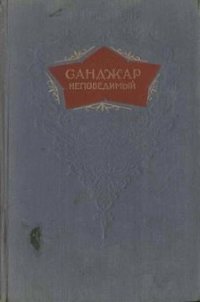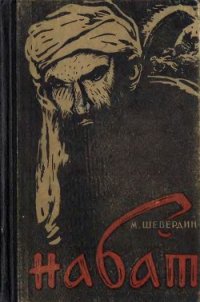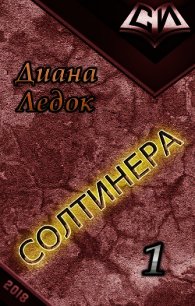Тени пустыни - Шевердин Михаил Иванович (чтение книг .TXT) 📗
— А как она попала сюда? — спросил он сухо.
Абдуррахим отказался удовлетворить любопытство Гуляма. Не место и не время говорить об этом. Господину векилю надлежит готовиться к отъезду. Путь не близкий и… тяжелый. Найдет ли он удобным подвергать лишениям путешествия свою супругу, прелестную «мадам»?
— Я хочу ее видеть.
— По ряду соображений это невозможно.
— Мне надо поговорить с ней. Я не знаю, сможет ли она. Захочет ли она… ехать?
— Их превосходительство, ваша супруга, изъявили желание.
И снова из груди Гуляма вырвался крик.
Вряд ли так кричал безумный Меджнун при виде влюбленной Лейли, когда она пришла к нему в пустыню.
— Я знал! — с диким торжеством воскликнул Гулям.
Абдуррахим был не только генгубом, он был человеком. Он откашлялся и даже прослезился. Он расправил свою великолепную генерал–губернаторскую бороду и почтительно склонил голову.
Он отдавал должное верности влюбленных. Все восточные люди преклоняются перед высокими чувствами. Влюбленные супруги! Как громко это звучит в наш черствый, расчетливый век!
— Что же прикажете вы передать своей супруге, ваше превосходительство? — повторил растроганный вельможа.
— Я хочу ее видеть…
Встреча Туляма и Насти–ханум, вопреки категорическому отказу генгуба Абдуррахима, состоялась. Более того, Настя–ханум пошла на добровольное затворничество. Она поселилась в Чаарбаг Фаурке.
Как это получилось, хорошо знал маленький самаркандец Алаярбек Даниарбек.
Не кто иной, как Алаярбек Даниарбек, в тот день перед вечерним намазом посетил мехмендера — церемониймейстера генгуба Абдуррахима.
Алаярбек Даниарбек вернулся к Петру Ивановичу рассвирепевшим. С одной стороны, его не могли не вывести из себя удушливые, смердящие отбросами кривые улочки города, кочковатые, с полными грязи рытвинами. Очень неприятно, когда вот–вот на голову плеснут помои или кое–что похуже. Он едва не заблудился в лабиринте проходов, столь узких, что с протянутыми руками упираешься в стены противоположных мазанок. Ни дуновения ветерка не ощущает там твое лицо. Да еще пришлось торчать в какой–то темной щели, прижавшись к калитке, когда, сопя и кряхтя, мимо шествовали по проулку верблюды–гиганты, норовившие своими боками расплющить прохожих о стены домов в лепешку. А когда Алаярбек Даниарбек шел через кладбище мимо мавзолеев с поблескивающими голубыми изразцами минаретов, сколько он натерпелся страхов, сколько раз сердце у него останавливалось и сколько раз он, отдышавшись, убеждался, что его напугал всего–навсего жалкий шакалий щенок или полосатая, свирепая, но трусливая гиена! Еще хуже, чем гиена, напугал его какой–то волосатый дервиш, пытавшийся ему продать кокосовые четки, которые якобы он принес из священного Лахора. Дервиш все кричал о молитвах и правоверии. Бедный Алаярбек Даниарбек, чтобы только избавиться от него, купил четки и убедился тут же, что святой сейчас же нырнул в двери какого–то ярко освещенного здания. В верхнем этаже его помещался кинотеатр, а в нижнем — восточные бани с мальчиками–прислужниками.
Алаярбек Даниарбек все же добрался до дворца и был принят мехмендером. Вручая ему ларец с драгоценностями Насти–ханум, оцениваемыми в неслыханную сумму, маленький самаркандец возмущался не столько тем, что пригодится ни за что ни про что давать такую богатую взятку «этому бездельнику», сколько тем, что на своем белоснежном камзоле он обнаружил подозрительные пятна и брызги — следы путешествия по грязным улочкам Герата.
Народная молва приписывала генгубу Абдуррахиму все качества великого человека: храбрость, честолюбие, жестокость, ум, хитрость, широту натуры, непоколебимость, щедрость. Но в этом длинном перечне отсутствовало одно качество — равнодушие к земным благам… Когда звенело золото, лицо Абдуррахима бледнело. Не мог он спокойно слышать звон золота. Алчность его вошла в поговорку… Рука руку моет — две руки лицо… И на что Абдуррахиму были деньги? Одна жадность. У него столько было денег, что даже в его пузе бренчало.
А физиономия мехмендера, удлиненная, как у крысы, с крысиными круглыми глазами, с торчащими, как у крысы, желтыми резцами, не вызывала доверия. «А вдруг он скажет, что меня не видел, — думал Алаярбек Даниарбек, — а вдруг он заявит, что меня по дороге ограбили, отняли ларец? А вдруг он подмигнет вон тем двум ободранцам олухам стражникам с мордами гиен?.. Плохо в чужом городе, да еще в таком, где после захода солнца все прячутся в своих домах и боятся нос показать». И Алаярбек Даниарбек вздохнул с облегчением лишь тогда, когда, пробираясь по темным глиняным коридорам улочек, вдруг услышал гудок автомобиля. Как тут не вздохнуть. Значит, близка главная улица, значит, близко советское, родное консульство.
Невозможное свершилось.
Не прозвучал еще с минаретов Шах–задэ Мансура, Мир Хусейна и Султан Муршида и сотен других призыв к вечерней молитве, кал Настя–ханум оказалась в объятиях своего возлюбленного супруга и повелителя.
А доктор Петр Иванович и его верный спутник и друг Алаярбек Даниарбек, сидя за столом в жалком, но претенциозном номере гостиницы Бурдж Хякистер, посмотрели друг на друга и покачали головой.
— Бог захочет, — важно говорил Алаярбек Даниарбек, — все обойдется. Такой богатый, такой умный, такой образованный, а берет взятки, как привратник в бане.
— Не в моем характере такие фокусы. Меня пригласили в Герат лечить больных, а не опекать сумасшедших влюбленных, — сказал туманно доктор.
— Говорят, один доктор поехал за четыре тысячи верст на конец света, в Москву, из–за карих глаз и черных кос. И все же ничего плохого не получилось, — заговорил многозначительно Алаярбек Даниарбек.
Склонный к поэтическому образу мышления, он выражал свои мысли в возвышенном стиле:
— Подобно тому, как небо, посылая иней, может погубить бутоны или заставить их расцвести, так и шах может проявить ужасающее величие или доброту…
— Ей нельзя было менять подданство, — сказал мрачно Петр Иванович.
Он смотрел в окно.
Мимо неторопливо катился вечерний Герат, душный, шумный. Гулко ухая, шлепали по пыли лапищами верблюды, груженные кипами хлопка. Вопя что–то, перегоняли их всадники на белых хамаданских ослах. Промелькнула красным пятном женщина верхом на корове. Пробиваясь сквозь пыль и толпы нищих, полз, отчаянно ревя клаксоном, автомобиль… У самой гостиницы громко спорили купцы–путешественники в гигантских белых чалмах… Доктор устало закрыл глаза. Алаярбек Даниарбек молчал.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Но в нем жила любовь, и потому
бессмертье было суждено ему.
Ты посмотри,
Как в тине светел лотос,
И ты поймешь,
Как сердце не грязнится.
Как ни странно, Джаббар проник к господину векилю в его темницу, если так можно было назвать поэтическую дачу Чаарбак Фаурке, без малейшего труда. Ни сторож у ворот, ни слуги во дворе даже не поинтересовались, кто он, откуда. Усатые стражники на террасе не прерывали игры в кости и так же азартно выкрикивали количество очков на выброшенных с треском костяшках, как и обычно. Конюхи усиленно скребли коней перед дальней дорогой.
Генгуб Абдуррахим любил хвастаться: «Даже мышонок не смеет пискнуть в Герате без нашего соизволения». Джаббар ибн–Салман далеко не мышонок. Ибн–Салман — фигура видная, появление его в Герате, хоть здесь целые кварталы населены арабскими купцами, вызвало шумные толки на базарах. Иголку в кармане не скроешь.
И тем не менее Джаббар ибн–Салман открыто явился в Чаарбаг Фаурке. Его никто не сопровождал. Он сменил свой малиновый беурминского шелка халат на черную суконную безрукавку пуштуна, а текинскую папаху — на огромную белую чалму. Он совсем выглядел бы афганцем, если бы не белесые его брови. Никого из гератцев его безрукавка и чалма не обманули.