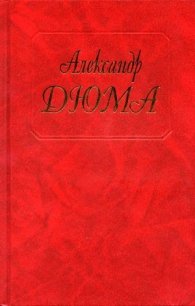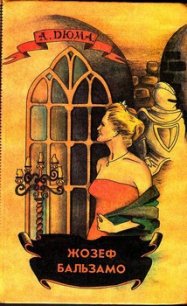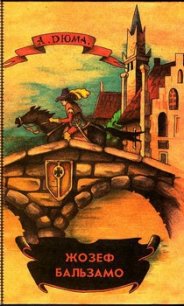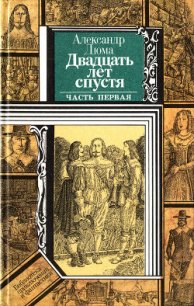Анж Питу (др. перевод) - Дюма Александр (первая книга .txt) 📗
Эти заклинания редко приводили к успеху, и все же такое бывало.
Но нынче Питу чувствовал себя мужчиной и поступил иначе; он как ни в чем не бывало открыл ларь, извлек из кармана широкий нож с деревянной ручкой, взял хлеб и криво отрезал ломоть весом не меньше килограмма, если прибегнуть к изящной терминологии новой системы мер и весов.
Потом он сунул хлеб назад в ларь и закрыл крышку.
Затем все так же невозмутимо он пошел и открыл буфет.
На мгновение Питу показалось, будто он слышит ругань тетки Анжелики; но дверца буфета скрипнула, и этот вполне реальный скрип заглушил звуки, порожденные воображением.
В те времена, когда Питу жил здесь, скупая тетка отделывалась простой и сытной снедью: то был марольский сыр или тонкий ломоть сала, завернутый в огромные зеленые капустные листья, но с тех пор как легендарный обжора-племянник уехал из родных мест, тетка, невзирая на скупость, стряпала себе на неделю вперед всякие угощения подчас не без изысканности.
Иногда это была разварная говядина с морковью и луком, тушенная на вчерашнем жире; иногда баранье рагу с аппетитной картошкой, причем каждая картофелина была величиной с детскую голову или продолговатая, как тыква; иногда телячья нога, приправленная луком-шалотом в уксусе; иногда – исполинская яичница, зажаренная на большой сковороде и разукрашенная зеленым луком и петрушкой или выложенная ломтями сала, каждого из которых хватило бы на трапезу старухе даже в те дни, когда у нее разыгрывался аппетит.
Всю неделю тетя Анжелика понемножку прикладывалась к кушанью и позволяла себе проглотить лакомый кусочек ровно в той мере, в какой ей это требовалось, но не больше.
Каждый день она наслаждалась тем, что ни с кем не обязана делить такие вкусные угощения, и всю блаженную неделю, всякий раз, когда тянула руку к тарелке и подносила ко рту кусок, ей вспоминался племянник, Анж Питу.
Анжу Питу повезло.
Он явился в тот самый день, в понедельник, когда тетка Анжелика сварила вместе с рисом старого петуха, который так долго кипел, окруженный со всех сторон мягкой белой массой, что мясо отстало от костей и сделалось почти нежным.
Кушанье удалось на славу; оно красовалось в глубокой тарелке, почернелой, но манящей и приятной для взора. Курятина выступала из-под риса подобно островкам в обширном озере, а петушиный гребень высился между утесов, как гребень Сеута над Гибралтарским проливом. При виде этого чуда Питу даже не соизволил восхищенно ахнуть.
Неблагодарный! Избаловавшись на разносолах, он забыл, что никогда прежде в буфете тетки Анжелики не видано было такого великолепия.
В правой руке у него был зажат ломоть хлеба.
Левой рукой он схватил вместительную миску и удержал ее в равновесии с помощью своего толстого большого пальца, который до первой фаланги погрузился при этом в густой и благоуханный жир.
В этот миг Питу показалось, что свет ему загородила какая-то фигура.
Он обернулся, улыбаясь, потому что был из тех простодушных натур, у которых радость сердца всегда отражается на физиономии.
Фигура, загородившая свет, оказалась теткой Анжеликой.
И скупости, вздорности, угловатости в ней нисколько не убавилось.
В былые времена – но тут мы вновь вынуждены прибегнуть к сравнению, поскольку именно сравнение в силах выразить нашу мысль, – так вот, в былые времена при виде тетки Анжелики Питу выронил бы блюдо, и покуда тетка Анжелика, согнувшись, собирала бы в отчаянии ошметки петуха и комочки риса, он перескочил бы через нее и удрал, прихватив с собой хлеб.
Но Питу был уже не тот, и каска с саблей меньше изменили его облик, чем встречи с великими философами эпохи переменили его образ мыслей.
Вместо того чтобы в ужасе убежать от тетки, он приблизился к ней с приветливой улыбкой, простер руки и, как ни пыталась она ускользнуть от объятий, сгреб ее двумя граблями, которые назывались у него руками, и прижал старую деву к груди; тем временем кисти его рук с зажатыми в них хлебом, ножом и миской скрестились у нее за спиной.
Затем, свершив сей акт родственной любви, который он вменил себе в обязанность и от которого не смел уклониться, он вздохнул в полную мощь своих легких и сказал:
– Да, тетя Анжелика, перед вами бедняга Питу.
Старая дева, непривычная к таким проявлениям нежности, вообразила, что застигнутый на месте преступления Питу решил ее задушить, как некогда Геракл задушил Антея.
Поэтому, когда он разомкнул свои столь опасные объятия, она вздохнула с облегчением.
Но от нее не укрылось, что Питу даже не выразил своего восхищения при виде петуха.
Питу оказался не только неблагодарным, но еще и невежей.
Тетка Анжелика задохнулась от негодования: Питу, который прежде, когда она восседала в своем кожаном кресле, не смел даже притулиться на одном из ломаных стульев или хромых табуретов, – теперь этот самый Питу, выпустив ее из объятий, вольготно плюхнулся в кресло, поставил миску между колен и набросился на еду.
В своей мощной деснице, выражаясь языком Писания, он сжимал вышеупомянутый нож с широким лезвием и деревянной рукоятью, сущее весло, которое сгодилось бы Полифему [194] для его похлебки.
В другой руке он сжимал ломоть хлеба в три пальца толщиной, в десять дюймов длиной – сущую метлу, которою он выметал рис из миски, покуда нож нащупывал мясо и накладывал его на хлеб.
В результате этого умелого и безжалостного маневра через несколько минут обнажился белый с голубым фаянс на дне тарелки, как обнажаются во время отлива причальные кольца и камни мола, от которого отхлынула вода.
Нет, мы не в силах описать всю степень замешательства и отчаяния тетки Анжелики.
На миг ей показалось, что ей удастся закричать.
Однако крик не получился.
Питу улыбался такой чарующей улыбкой, что крик замер у тетки Анжелики на губах.
Тогда она тоже попыталась улыбнуться, надеясь укротить свирепого зверя по имени голод, поселившегося в брюхе ее племянника.
Но изголодавшееся брюхо Питу было, точь-в-точь по пословице, к ученью глухо.
Улыбка старой девы разрешилась слезами.
Это немного смутило Питу, но нисколько не помешало его трапезе.
– Ох, тетушка, какая же вы добрая: плачете от радости, видя, что я вернулся! Спасибо, милая тетя, спасибо!
И он продолжал уплетать.
Решительно, Французская революция изменила его до неузнаваемости.
Он проглотил три четверти петуха, оставил на донышке горстку риса и сказал:
– Милая тетя, вы ведь больше любите рис, правда? Вам его легче разжевать; рис я оставлю вам.
Тетя Анжелика чуть не задохнулась в ответ на эту заботу, которую она, несомненно, приняла за издевательство. Она решительно приблизилась к юному Питу и вырвала у него из рук тарелку, изрыгая проклятия, которые двадцатью годами позже с удовольствием подхватил бы гренадер старой гвардии.
Питу испустил вздох.
– Ох, тетушка, – заметил он, – сдается, вы пожалели мне петуха.
– Негодяй! – вымолвила тетка Анжелика. – Он еще зубоскалит.
«Зубоскалить» – воистину французское словечко, а в Иль-де-Франсе отменно говорят по-французски.
Питу встал.
– Тетушка, – величественно произнес он, – у меня и в мыслях не было уклониться от уплаты, я при деньгах. Если пожелаете, я поживу у вас на довольствии, но оставляю за собой право составлять меню.
– Прохвост! – вскричала тетка Анжелика.
– Что ж, положим четыре су за рис – я разумею ту порцию, которую сейчас съел, – четыре су за рис и два су за хлеб. Итого шесть су.
– Шесть cy! – возопила тетка. – Шесть су! Да там одного рису на восемь су и хлеба не меньше чем на шесть су.
– Кроме того, – продолжал Питу, – я не считал петуха, милая тетушка, поскольку он с вашего птичьего двора. Мы с ним старые знакомые, я сразу его признал по гребешку.
– Однако он тоже денег стоит.
– Ему девять лет. Я сам его для вас стянул из-под крылышка его мамаши. Он был тогда с кулачок ростом; вы еще вздули меня за то, что я не принес заодно зерна, чтобы его кормить. Мадемуазель Катрин дала мне зерна. Петух был мой, я съел свое добро, у меня было на то полное право.
194
Полифем (греч. миф.) – одноглазый великан (циклоп) – людоед.