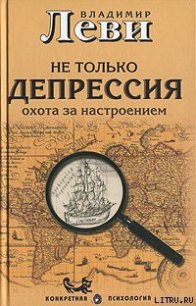Империя депрессии. Глобальная история разрушительной болезни - Садовски Джонатан (читать книги онлайн без txt, fb2) 📗
Рисунок 3. График показывает изменение частотности употребления терминов «меланхолия» и «депрессия».
Источник: Google Ngrams
Диагностический сдвиг – прекращение использования или переименование прежних диагнозов, поддержка новых диагнозов – некогда занимал десятилетия, если не века. Теперь же он случается каждые несколько лет.
Делает ли вас кража канцелярских принадлежностей плохим человеком? Размышления о вине
Красть канцелярские принадлежности с работы – не дело. Но мало кто скажет, что это делает человека плохим. Однако, если человек находится в депрессии, его будет трудно убедить в обратном.
Пример взят из очерка о клинической депрессии из популярной книги о психиатрии. После полученной травмы одна женщина-секретарь стала испытывать трудности при выполнении рабочих обязанностей. Вскоре она начала терять вес, у нее появились бессонница и апатия, пропал интерес к тому, что прежде очень интересовало ее; она стала ощущать беспокойство и тревогу, а также начала думать о собственной никчемности.
Ее мужа особенно озадачил один симптом: чувство вины. Она таскала домой канцелярские принадлежности для собственного использования и чувствовала огромные угрызения совести. Муж считал, что начальство вряд ли придаст этому значение, и оказался прав, – когда она призналась, босс ответил, что знает, что сотрудники иногда берут домой ручку или коробок скрепок, и ничего страшного в этом нет. Но даже после разговора с начальником она ужасно переживала, как будто это было смертным грехом[210].
Супруга героини это, может, и поразило, но человек с депрессией вряд ли бы удивился. Беспрестанное самобичевание несоразмерных с виной масштабов – обычный симптом депрессии. А для меланхолии? А присутствует ли этот симптом депрессии во всех случаях, где она была обнаружена?
Мы уже обратили внимание, что некоторые считают депрессию современной западной болезнью, тогда как другие думают, что она встречается повсеместно. С описанным симптомом та же история: не появился ли он на Западе в новейшее время?[211] В самом начале XX века в своей работе о меланхолии Фрейд назвал чувство вины определяющим признаком. Однако, как и в случае с депрессией, присутствие вины как симптома может зависеть от того, каким образом ее определяют и как называют, обнаружив ее признаки.
Если вина при депрессии действительно порождение западной культуры – отчего так? Возможно, дело в «культуре вины» – в культуре, в которой моральные ориентиры определяются внутренними ограничениями больше, чем страхом потери репутации в обществе[212]. Существуют предположения, что сама «культура вины» возникла в западном обществе в период раннего Нового времени[213]. При наличии более широкого культурного контекста, уже включающего в себя концепцию вины, в случае психического заболевания она заявляет о себе особенно ярко. Это чувство у любого страдающего депрессией может усугубляться настолько, что он предается яростному самобичеванию из-за любой мелочи, вроде украденной коробки скрепок.
Чувство вины у меланхоликов может быть и не таким уж и современным. В Средневековье покаяние считалось единственным возможным средством от апатии[214]. Хильдегарда Бингенская ассоциировала чувство вины с меланхолией[215]. Фламандский живописец XV века Хуго ван дер Гус испытывал упадок сил и суицидальные мысли в сочетании с осознанием, что он навеки проклят[216]. Если это не ощущение вины, то тогда что? Позднее, в 1586 году, но все еще достаточно рано для широкого распространения, Тимоти Брайт в своем «Трактате о меланхолии» нарочно разграничивает угрызения совести меланхолика и здорового человека, а голландский психиатр Иоганн Вейер в 1598 году пишет о муках совести меланхолика[217].
А что же с чувством вины как симптомом современной западной депрессии? Вопрос непростой – равно как и вопрос о том, является ли депрессия болезнью Запада. Точно так же, как некоторые колониальные психиатры считали, что в Африке депрессии редки, кое-кто думает, что и вина редко является симптомом болезни. Это утверждение – часть расистского представления о безмятежных душах туземцев. Другие, те, кто утверждал, что в Африке депрессия тоже не редкость, сталкивались с этим симптомом[218]. Психиатр и антрополог Маргарет Филд во время экспедиции в святилище врачевателей в Гане обнаружила, что большинство случаев депрессии сопровождались мыслями о собственной вине. Помимо самобичевания, симптомы также включали плаксивость, бессонницу и апатию[219]. Пациентами были те, кто обвинял себя в колдовстве. Это они, по их собственным словам, были повинны в смерти родных, в гибели урожая от болезней и, к примеру, в автомобильных авариях. Филд нашла сходство с пациентами, которых видела в лондонских клиниках, безо всякой причины признающихся в ужасных преступлениях. Мысль Филд была не нова. В Англии раннего Нового времени считалось, что оговорившие себя ведьмы в действительности страдали меланхолией[220].
Индийские исследователи в 1970-х годах выражали удивление рекордно низкому уровню вины как симптому депрессии, поскольку совокупность индийских культур имеет обширные культурные склонности к вине[221]. Но чувство вины может и не проявиться при обезличенном опросе и проявиться лишь при дальнейшем углублении в терапию[222]. Другие ученые находили у индийцев симптомы вины, часто относящиеся к дурным поступкам из прошлого воплощения[223]. Чувство вины как симптом депрессии кажется не таким уж редким за пределами Запада, но смысл, вкладываемый в понятие вины, варьируется в зависимости от культуры[224]. Кажется, можно говорить об «идиомах вины» точно так же, как и об «идиомах горя».
Запад бахвалится, что концепция «культуры вины» – его личная придумка. Как и сама депрессия, чрезмерная вина необъяснимым образом превозносилась в колониальном мышлении: она была не только разрушительным симптомом болезни, но и признаком культурных достижений. Теоретик антиколониализма и психиатр Франц Фанон заметил, что французские коллеги считали, что алжирцы не способны на подлинную меланхолию, только лишь на «псевдомеланхолию»[225]. Психиатры считали, что жители Алжира не чувствуют вину как симптом, поскольку направляют всю агрессию вовне. Утверждение, что алжирцы способны лишь на «псевдомеланхолию», – не что иное, как завуалированный посыл: они не являются цивилизованными людьми.
Врачи, психотерапевты и публицисты продолжают спорить о телесном и психическом, генетике и травматике, о медикаментозной терапии и психотерапевтических практиках. Эти дискуссии часто предполагают ложный выбор. Однако стоит помнить: медикаменты, как и психотерапевтические практики, помогают; как генетическая предрасположенность, так и жизненные обстоятельства могут влиять на причинную обусловленность. По каждой точке зрения то и дело появляются догматические утверждения. Но их не следует допускать.
Лечение депрессии как физического состояния теперь кажется, – во всяком случае для горячих приверженцев биологической модели депрессии, – переходом на более просвещенный уровень, нежели моралистические или психологические уровни, характерные для прежних эпох. Но при обсуждении меланхолии затрагивался и телесный, и психический аспект. Даже моралист Мартин Лютер видел физическую природу безумия. В прежние времена люди хорошо понимали то, о чем нынешнему поколению приходится беспрестанно себе напоминать: телесное не означает только телесное, а психическое – исключительно психическое.
Подход сторонников гуморальной теории может казаться странным и антинаучным. Их наблюдения и догадки легко недооценивать. Важным инструментом науки является редукционизм – поиск единственной причины болезни. Этот инструмент помог добиться большого прогресса в деле лечения инфекционных болезней, как только подтвердилась микробная теория. Но доктрина единственной причины оказалась чересчур опасным инструментом. Она всегда оставляла в тени социальные причины болезней, – а у всякой болезни, даже инфекционной, они есть. Доктрина единственной причины не отражает сложного взаимодействия телесного и психического, имеющего место в случае любой болезни, включая те, что мы называем «психическими»[226].