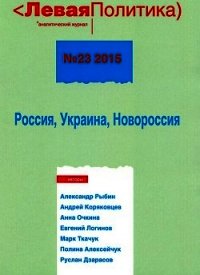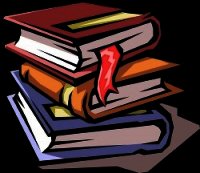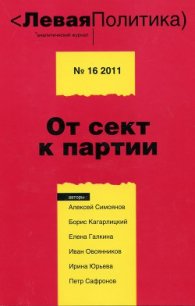Левая политика. 2010 № 13 -14. Варварство, социализм или... - Кагарлицкий Борис Юльевич
Не будем вдаваться в рассуждения о том, существует ли в действительности «либеральнофашистский заговор» в недрах всемирной паутины и насколько вера в творение может быть сопоставлена с теорией эволюции. Живи Лео Таксиль в наши дни, шумские и ку-раевы доставили бы ему немало приятных минут. Проблема в другом: возможно ли защитить идеи и ценности Просвещения, пользуясь либеральным инструментарием? Может ли элитарный протест, апеллирующий к мнению западной общественности куда в большей мере, чем к нуждам и чаяниям рядовых граждан своей страны, превратиться в массовое, действительно демократическое сопротивление росту религиозного фундаментализма?
Двадцать лет тому назад перестроечная интеллигенция взахлёб вопрошала: «Зачем дорога, если она не ведёт к храму?». Тема всенародного покаяния за грехи безбожных большевиков стала идеей фикс постсоветского образованного обывателя. Отказ от коммунистического наследия, мотивированный стремлением «жить, как на Западе», «вернуть Россию в цивилизованный мир» на деле обернулся отказом от всего того, что составляет основу западной демократии: социальных гарантий, гражданских прав и светского государства. Атаке подвергся весь комплекс идей, идущих от Просвещения, и, прежде всего, идея прогресса, рационалистического познания и изменения мира. «Второе крещение Руси», не случайно совпавшее с шоковой терапией, граничило с массовым психозом. Миллионы, казалось бы, культурных людей бесновались на сеансах «целителей», обивали пороги гипнотизёров, астрологов и магов, наводняли тоталитарные секты и приходы «традиционных конфессий». Больше всех в уловлении душ преуспела, разумеется, РПЦ, пользовавшаяся особым покровительством «демократов», с самого начала стремившихся реставрировать имперские порядки и символы. Религия вновь стала «вздохом угнетённой твари», «сердцем бессердечного мира», «духом бездушных порядков», «опиумом народа».
Российские либералы, вдохновлявшиеся Пиночетом и Столыпиным, презиравшие «совков» и неустанно требовавшие крови, были усердными менестрелями религиозного «возрождения». Именно с их подачи РПЦ превратилась в мегакорпорацию, владеющую громадной собственностью и политическим влиянием. С производством духовных ценностей произошло в точности то же самое, что и с материальным производством. В то время как новые русские в союзе с коррумпированной бюрократией захватывали и расхищали экономику, новые русские попы (зачастую, выходцы из той же номенклатурной среды) прибирали к рукам недвижимость, земли, культурные ценности, создавали собственную бизнес-империю, но главное — приватизировали неисчерпаемые ресурсы отчаяния и духовной опустошённости, порождённые триумфом свободного рынка.
В то время как Церковь жирела, наука и образование умирали, точнее — планомерно уничтожались либеральными «реформаторами». Пока промышленные и сельхозпредприятия, объекты социальной инфраструктуры приходили в упадок, среди руин поднимались сверкающие сусальным золотом купола церквей. Победившей бюрократ-буржуазии требовался новый идеологический аппарат, и православие сделалось его важнейшей составной частью.
Либеральные деятели призывают власть соблюдать статью Конституции, декларирующую отделение церкви от государства. С тем же успехом они могли бы требовать отделения от государства «Газпрома», РАО «ЕЭС» и прочих «естественных» монополий. Утопия — думать, что в условиях современного глобального капитализма, означающего тотальное господство транснациональных корпораций, государство может быть чем-то иным, кроме как придатком монополистического капитала, его бутафорским псевдодемократическим фасадом. Рясоносные олигархи лоббируют свои интересы точно так же, как любые другие олигархи используют приватизированное государство как инструмент своей частной власти.
Школьная экспансия РПЦ в точности соответствует философии неолиберальных реформаторов, рассматривающих образовательную сферу как сферу коммерции. Действительно, если школа — рынок, тогда содержание реализуемых на нём услуг зависит не от каких-то культуртрегерских мотивов, а от потребительского спроса, который, в свою очередь, формируется теми, кто обладает большими пиар-ресурсами и политическим весом. Когда Кураев называет светскую школу антиконституционным учреждением, он всего лишь выражает либеральный принцип laissez-faire: «Дайте нам свободу торговли!». Что могут возразить на это либеральные критики?
Иерей Шумский, напротив, требует от государства протекционистских мер: «Защитим отечественного товаропроизводителя от информационной анархии!» Однако и тут либеральным идеологам трудно что-либо возразить. Ведь протекционизм — просто другое проявление той же самой свободы крупного капитала — свободы сильнейших устанавливать правила игры. Разве транснациональные корпорации не требуют госвмешательства всякий раз, когда очередной кризис угрожает их прибылям? И разве, признавая информацию товаром, мы не должны распространить на неё ту же самую рыночную логику, что и на все прочие товары?
Осуждение Ерофеева и Са-модурова кажется средневековым варварством, однако средневековое оно только по форме. Одно из «кощунственных» произведений, представленных на скандальной выставке, изображает лик Христа на фоне эмблемы «Макдоналдс»: Богочеловек превратился в trade mark, а церковь — в нечто вроде духовного фастфуда. Но если Иисус — бренд, значит, глумление над ним есть ущемление интересов правообладателя. Если бы корпорация «Макдоналдс» привлекла к суду какого-нибудь художника-антиглобалиста за сатирическое использование образа Рональда Макдональда, стала бы либеральная публика поднимать шум? Можно, разумеется, возразить, что есть ценности духовные, общечеловеческие, табуированные от рыночного вмешательства. Однако подобные табу священны лишь для тех, кто в них верит. Гуманитарный идеализм либеральной интеллигенции с головой выдаёт её непоследовательность, отнюдь не свойственную циничным неолиберальным технократам как светского, так и духовного звания.
Православно-черносотенные фанатики, так же как и их мусульманские собратья, взрывают либеральную политкорректность, апеллируя к либеральной identity politics. Мракобесие требует к себе толерантности. В итоге приватизированное государство выступает в роли суперарбитра и становится на сторону «неправильной», с точки зрения либералов, идентичности. Просто потому, что российский капитал в пику западным конкурентам предпочитает легитимизировать своё господство иными, правоконсервативными мифами. Таким образом, перед нами — очередная потасовка славянофилов и западников, стоящих на общей классовой платформе. Для подавляющего большинства народа она интересна не больше, чем страдания Ходорковского или дело об «антисоветской шашлычной».
Само собой разумеется, что либеральные деятели считают собственную религию единственно верной; что свобода либерального слова, либерального творчества, либеральной личности и т. д. воспринимаются ими как общечеловеческие ценности, в то время как свобода традиционалистская или, скажем, коммунистическая — как тоталитарное покушение на свободу «вообще». Однако сколь бы «естественными» ни казались либеральные права и ценности самим их носителям, круг таковых в России весьма узок. Вопреки распространённым мифам, это даже не большинство среднего класса и, уж конечно, не большинство народа. Понятно, что претензия Московского патриархата вещать от имени «традиционного большинства» так же демагогична, однако достаточно сравнить самый заурядный крестный ход в самом захудалом провинциальном городе с самым громким из «маршей несогласных», чтобы почувствовать разницу.
Секрет успеха православного (анти-)возрождения в постсоветской России кроется главным образом в реакционно-антикапиталистической составляющей этой, как и любой другой, религиозной идеологии. От зыбкого, абсурдного, суетного, в общем — отчуждённого бытия в холодной капиталистической вселенной верующий бежит в мир вечной справедливости, твёрдых нравственных принципов, мистических восторгов, где экзистенциальное одиночество индивида, его отчуждение от самого себя и себе подобных, иллюзорно преодолевается посредством особого рода групповой психотерапии. Травмированный капитализмом обыватель, как Хома Брут, чертит вокруг себя магический круг, заклиная чудовищную действительность вместо того, чтобы противостоять ей.