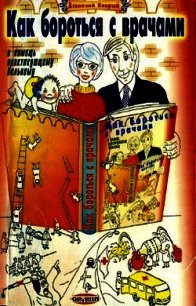Клинические разборы в психиатрической практике - Гофман Александр Генрихович (книги бесплатно txt) 📗
P.S. Ознакомившись с настоящим разбором, опубликованным в очередном номере НПЖ, пациентка М. прислала в журнал свою версию анализа болезни (см. НПЖ, 2001, № 1). Выдержки из этого анализа прилагаются.
«Получив журнал, я с большим интересом ознакомилась с текстами выступлений. То, что было сказано на семинаре о моем заболевании, в целом не стало для меня чем-то неожиданным или принципиально новым, однако некоторые аспекты моего заболевания предстали предо мною в новом ракурсе. М. Е. Бурно очень интересно говорил о психоастеноподобных переживаниях при аффект-эпилепсии, и меня порадовало, что мои переживания и мой очень сложный характер поняли и так выразительно описали. Это дает возможность и мне лучше понимать себя и даже в чем-то себя принимать, хотя это очень нелегко. Выступление А. Ю. Магалифа, на мой взгляд, очень хорошо дополнило выступление М. Е. Бурно. Важно, что А. Ю. Магалиф, не подвергая сомнению наличие аффект-эпилепсии, подчеркнул большое значение циркулярных расстройств в картине моего заболевания (я бы, правда, назвала их „циркуляроподобными“, поскольку „чистых“ депрессивных и маниакальных фаз у меня практически не было, состояние носило всегда смешанный характер). Мне кажется, что осторожный вывод, сделанный А. Ю. Магалифом, справедлив: „Какой же у нее диагноз? Он не может быть однозначным. Так как состоит из фрагментов различных нозологических форм… Поэтому его следует формулировать по ведущей патологии. Ею являются эпилептиформные и циркулярные расстройства. Поэтому диагноз: „Эпилепсия с полиморфными, в том числе личностными, нарушениями на фоне ранней церебрально-органической недостаточности; эндогенные циркулярные расстройства““. Диагноз „шизоэпилепсия“ не был поддержан участниками семинара; впрочем, те врачи, которые мне ранее ставили такой диагноз, имели в виду лишь те расстройства, которые сейчас принято называть „шизотипическими“, а вовсе не заболевание с выраженной прогредиентностью. Я все это понимала, и никакого страха этот диагноз у меня не вызывал. Какова бы ни была формулировка моего диагноза, я как научный сотрудник понимаю, что в любой области термины зачастую достаточно условны и могут использоваться либо в узком, либо в широком смысле.
Из выступления А. Ю. Магалифа мне стало наконец понятно, почему я так плохо переношу нейролептики. Должна, впрочем, заметить, что с каждым годом я реагирую на них все хуже и хуже (сильные головокружения с мучительными ощущениями онемения части головы, пароксизмальные приступы страха, иногда — нарушение равновесия). Кстати, единственный большой эпилептический припадок возник после того, как я в течении приблизительно недели принимала по несколько таблеток стелазина в день. Раньше я неплохо переносила большие дозы неулептила, лепонекса и сонапакса (в 1984–1985 гг., в 1990-е годы уже значительно хуже). Значительные дозы аминазина в 1996 г. не вызывали особенно неприятных явлений (хотя и привели в конце концов к депрессии). То, что я стала плохо переносить практически все эти препараты (причем в небольших дозах), оказалось для меня неожиданностью. Не исключено, что постоянный, длительный прием фенобарбитала мог усилить побочное действие нейролептиков, хотя и без него моя реакция на нейролептики с годами изменялась.
Быть может, это покажется несколько неуместным, но я не могу не отметить здесь отдельные неточности (в том числе в изложении моего анамнеза), возникшие в результате случайного недопонимания моих слов.
1. Наследственность моя, конечно же, отягощена. Хотя никто из моих родственников не имел больших или малых эпилептических припадков, а тем более — шизофрении или маниакально-депрессивного психоза, — и никогда не был госпитализирован в психиатрическую клинику, однако эпилептоидные черты характера (особенно „взрывчатость“) были характерны не только для моего отца, но и для всех родственников по отцовской линии. Прадед моего отца выпивал и был страстным игроком (не знаю как, но он проиграл даже свое дворянство, вернее, положение „казацкий старшина“, приравнивавшееся к дворянству); мой дед, по отзывам бабушки и сестры моего отца, был настоящим „домашним тираном“.
2. Мне кажется, что стереотипных движений у меня не было: я бегала по кругу по всему периметру зала только в детском саду, но не дома и не на даче, там была возможность бегать, шалить и играть, как мне хотелось, а в детском саду я просто не находила себе места и у меня не было моих любимых игрушек. Да, я бегала, иногда вприпрыжку и от возбуждения размахивая руками, поскольку в это время я в своем воображении была полководцем, скакала на лошади и сражалась с врагами (прекрасно, разумеется, зная, что я в ненавистном детском саду и в ненавистном платье и что надо уйти от отвратительной реальности в область фантазии). Остановить мой бег можно было в любой момент: я реагировала на все окружающее. Непродуктивных игр и стереотипных движений дома у меня никогда не было, было лишь сплошное „творческое самовыражение“, что подтверждает и мама. Насколько мои фантазии являлись бредоподобными, судить, конечно, врачам, скажу лишь, что в основе большинства моих фантазий было стремление создать для себя свой мир, в котором можно было жить, поскольку в детском саду и школе мне жить было невыносимо (о чем хорошо сказано в докладе А. Я. Басовой). „Трясла головой“ (вернее, прижимала подбородок к груди или втягивала голову в плечи) я уже позднее, примерно с 12–13 лет. Кажется, это было двигательной навязчивостью (впрочем, какие-то неприятные ощущения в шее, способствовавшие появлению этой навязчивости, могли быть обусловлены сколиозом). Думаю, фантазии о микробах тоже не столько бредовые, сколько связаны с очень рано возникшими ипохондрическими страхами.
3. Я никогда не казалась родителям малоподвижной или медлительной. Еще до детского сада я бегала на даче по дорожке так, что им было нелегко меня догнать. Дома шалила, была вполне активна. Совершенно, впрочем, верно, что я была не столь шустрой, как сверстники, но это потому, что была неловкой: они, например, могли быстро шмыгнуть за угол, а мне этот угол нужно было обогнуть. В результате я не могла их догнать и дать сдачи. Так и не научилась прыгать через скакалку и играть в „классики“ (трудно было прыгать на одной ноге). Видимо, органические нарушения действительно имеют место, как заметили А. Я. Басова и А. Ю. Магалиф.
4. Мое отношение к телу никогда не было „спокойным“. Меня всегда раздражало и сейчас очень мучает все то, что делает меня похожей на женщину (особенно грудь). О возможности изменения пола я узнала лишь в 27 лет. За два года до этого я стала кандидатом наук. При обследовании у сексопатолога я сказала, что не могу сделать операцию с изменением паспортного пола, так как это полностью разрушит мое нынешнее положение и научную карьеру. Поздно начинать жизнь заново. Грудь мне бы хотелось удалить, но это нереально: у меня нет денег и, кроме того, мне никто не сделает эту операцию, поскольку мне, понятно, никто не даст справку о том, что я психически здорова. Больше я на эту тему ничего не хочу писать, несмотря на всю мою регрессивную синтонность (которая, действительно, имеет место).
Должна также заметить, что прямых зрительных обманов у меня практически не было: в детстве лишь казалось, что в темноте предмет похож на что-то страшное. Иногда в детстве было впечатление смещения предметов по горизонтали, если смотреть под определенным углом (но это могло быть обусловлено и косоглазием). Страха это не вызывало. Впрочем, летом этого года стали частыми легкие головокружения, и один раз перед глазами действительно „закружился“ потолок, и я с трудом могла ходить (как раньше бывало только в состоянии весьма редко случавшихся сильных выпивок). Иногда (преимущественно в возрасте 20–23 лет) бывало нечто похожее на обонятельные галлюцинации: порой я ощущала довольно приятный, терпкий, весьма своеобразный запах, не похожий в точности ни на один из известных мне обычных запахов. Это ощущение могло продолжаться целый день, то усиливаясь, то почти исчезая. Я точно знала, что во внешнем мире нет источника этого запаха, но это меня нисколько не беспокоило, тем более что это ощущение не имело прямой связи с тягостными аффективными состояниями.