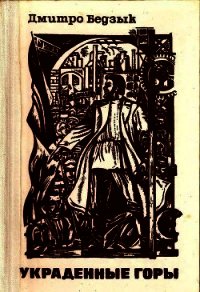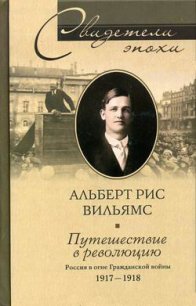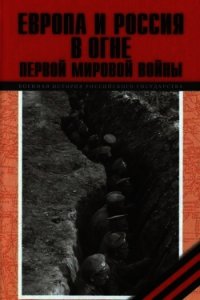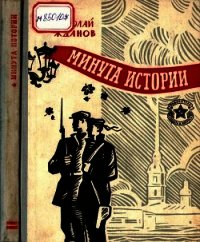Поэзия первых лет революции - Меньшутин Андрей (читать полные книги онлайн бесплатно txt) 📗
Показательны в этом смысле те чужеродные стилевые влияния, которые проникали тогда в среду пролетарских поэтов и говорили не в пользу авторов, пытавшихся писать о современности на языке, заимствованном, «приблизительном», невнятном, а то и просто не подобающем поэту революции. Эти «сторонние» воздействия тоже имели свою внутреннюю «мотивировку», которая их не оправдывает, но объясняет и позволяет понять, почему именно тот, а не другой стилевой «крен» давал себя знать в творчестве пролетарских поэтов. При достаточно ограниченном влиянии со стороны футуристов, при совершенной непопулярности в этой среде образцов поэзии акмеизма, здесь особенным успехом, как мы видели, пользовались штампы символистской поэтики, привлекавшие, конечно, не религиозно-мистическим содержанием, а своей «возвышенностью», высокопарностью, велеречивостью. Если образы акмеистов были попросту «мелковаты» для пролетарского поэта, если футуризм был для него слишком груб и невразумителен, то абстрактный лексикон символизма, где чуть ли не все слова писались с прописной буквы, нередко обладал в его глазах кажущимся соответствием с огромными величинами сегодняшнего дня. Этим объясняется, в частности, распространение символистских штампов в революционной поэзии 1917-1920 годов, испытывавшей острую о и нужду в «высоком», «приподнятом» славе, но вынужденной иной раз пробавляться искусственными заменителями, обладавшими лишь мнимой эстетической ценностью. Они быстро исчезли из поэтического обихода несколько лет спустя (заодно с космизмом, абстрактной символикой и т. д.), когда на передний план выдвинулись иные задачи, потребовавшие от поэзии «речи точной и нагой», исполненной изобразительной конкретности, предметной достоверности. Тогда-то, в начале 20-х годов, в творчестве ряда советских поэтов «второго поколения» (Багрицкого, Тихонова, Сельвинского и других), если и сказывались порой «сторонние» стилевые влияния, то уже не символистического, а преимущественно акмеистического происхождения. Хотя сам акмеизм как литературная школа давно уже вышел в тираж, некоторые черты его стиля (обыгрывание конкретной «вещной» детали, предметная изобразительность поэтической речи, наглядная «картинность» образа) давали себя знать в практике того или иного молодого автора, воодушевленного пафосом конкретизации и «овеществления», подобно тому как в начале революции возвышенно-одухотворенный строи поэтики символизма чем-то импонировал поэтам Пролеткульта и «Кузницы».
Это показывает, что даже в сфере достаточно случайных влияний, так же как в ученичестве, в эпигонстве или подражательности, существует определенная логика и преемственность, до некоторой степени (в ослабленном или в искаженном ви, воспроизвод щая основные, ведущие процессы в поэтическом языке. Писать под Бальмонта в 1925 году никому из мало-мальски одаренных молодых поэтов не пришло бы в голову, но в 1918 году звонкие «бальмонтизмы» были в ходу, ибо как-то отвечали повышенной эмоциональной настроенности, которая тогда господствовала. Поэты же, проходившие выучку у акмеиста М. Зенкевича (например, И. Сельвинский в своих ранних стихах), тогда были «неслышны», заглушаемые патетическим «грохотом», да и сам Зенкевич испытывал тогда заметное влияние «господствующего стиля», сближаясь в ряде произведений (выполненных в гиперболизированной, резко экспрессивной, абстрактно-символической манере) с футуристами и пролеткультовцами:
Цыц вы! Под дремлющей Этной
Древний проснулся Тартар.
Миллионами молний ответный
К солнцу стремится пурпур.
Не крестный, а красный террор.
Мы - племя, из тьмы кующее пламя.
Наш род - рад вихрям руд.
Молодо буйство горнов солнца.
Мир - наковальня молотобойца31.
Когда однажды ряду пролетарских поэтов была предложена анкета с вопросами о литературных влияниях, которые они испытали, первое место из самых влиятельных в этой среде авторов получили символисты - А. Белый и Блок. А на вопрос о том, к какой поэтической школе поэты себя причисляют, многие пролеткультовцы - В. Александровский, С. Обрадович, В. Казин, Н. Дегтярев - ответили: «пролетарский имажинизм»32. Это самоопределение в первый момент кажется невероятным: ведь никаких сколько-нибудь глубоких связей у пролетарских поэтов с имажинистами не было, и они ожесточенно боролись с этой группой, так же как ее представители постоянно тогда выступали с отрицанием пролетарской поэзии. И все же такой ответ был дан не случайно. Помимо желания авторов именоваться «по-модному» и быть, что называется, на уровне «современных» веяний, здесь сказалась, видимо, установка пролетарских поэтов на густую образность, метафорическую экспрессивность, не имевшую ничего общего с настоящим имажинизмом, но действительно характерную для их творчества. Эта поэзия, устремленная. ввьись, закрученная вихрем ярких, пышных, но не всегда четких и жизненно достоверных образов, испытывала ту стилевую перегрузку, которая в субъективном осознании и получила в данном случае такое странное, несообразное определение, как «пролетарский имажинизм».
Советская литература в ранний период развития знала немало подобного рода терминологических «сдвигов» (которые не всегда ограничивались лишь путаницей в определениях, но порой означали известное «потеснение» в пользу враждебной эстетики и идеологии). Также в поэтическом языке тех лет наблюдается большая подвижность, взаимопроникновение, переплетение стилей, создающих в целом картину достаточно сложную, запутанную, противоречивую, хотя и богатую по своим творческим возможностям. В переплавку и перестройку шли очень разные по «исходным данным», ото своим принципам и традициям стилевые системы. Иные из них сохранялись й обновлялись, иные падали на глазах, не выдержав столкновения с жизнью, с новыми эстетическими запросами. Во множестве появлялись «временные», «промежуточные» сочетания, говорившие лишь о частичном приятии новых требований, о неполном соответствии поэзии. с действительностью, конкретного выполнения - с замыслом художника, практики - с теорией. Подобно тому как в литературной борьбе часто действовали тогда самые странные союзы и объединения, так и в поэтическом языке возникали сплавы и смеси, удивляющие своим неоднородным составом, совмещением очень разных интересов и устремлений.
Любопытный образчик такой «смеси» представляет, например, поэзия В. Нарбута - в прошлом акмеиста, специализированного на воспевании «грубой плоти»; подаваемой в нарочито сниженной, эпатирующей, «откровенной», манере, близкой к «эстетике безобразного» французских «проклятых» поэтов и русских футуристов. В новой книге стихов «Плоть. Быто-эпос» (1920) Нарбут продолжает разрабатывать эту «низкую тему», изображая отталкивающие подробности из быта бань, мертвецких и т. п. и щеголяя своим бесстрашием в описании самых грубых, «запретных» сторон действительности.
И разве этот голый в мертвецкой -
изысканнейший тот господин?..
Скуластый, скрюченный, белобрысый,
и верхняя припухла губа...
Мошонку растормошили крысы
и - сукровицу можно хлебать!..33
Подобные строки звучали как вызов изнеженным вкусам «чистой лирики» и трактовались тогда в определенных кругах как своего рода «бунт материи» против засилия «духа», «неземной красоты». Вместе с тем очевидно преобладание в этих стихах чисто эстетского подхода к теме, материалу: «уродливое» превращалось в предмет «самодельного» любования, порою - с оттенком издевки, болезненной извращенности.