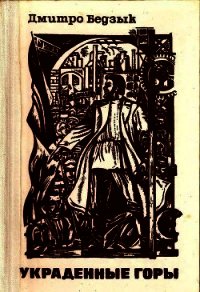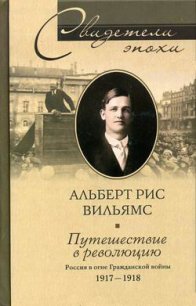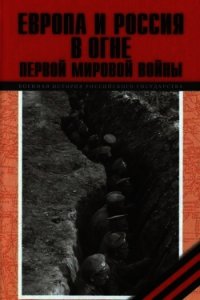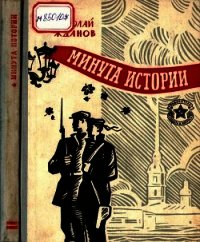Поэзия первых лет революции - Меньшутин Андрей (читать полные книги онлайн бесплатно txt) 📗
«Да здравствует социализм» - под этим лозунгом строит новую жизнь политик.
«Да здравствует социализм» - этим возвышенный, идет под дула красноармеец.
«Днесь небывалой сбывается былью великая ересь», - говорит поэт.
Если б бы было в идее, в чувстве - всех троих пришлось бы назвать поэтами.
Идея одна. Чувство одно.
Разница только в способе выражения.
У одного - политическая борьба.
У второго - он сам и его оружие.
У третьего - венок слов24.
Речь поэта выступает, таким образом, в двойственном отношении к языку жизни она и похожа и не похожа на него; нее общая и направленность с лозунгами революции и вместе с тем особое, отличное, поэтическое значение (а не только лишь «способ выражения», как говорит здесь Маяковский). Очевидная разница в структуре и тональности этой речи (т. е. художественная специфика словесного творчества) имеет своею целью наиболее полно и правдиво выразить тот общенародный пафос, которым воодушевлены и поэт, и политик, и красноармеец.
Подобного рода диалектическое противоречие (свойственное в принципе любому произведению искусства, которое уподобляется жизни, но не перестает быть искусством) приобретало в те годы особенную остроту, ибо сама действительность толкала авторов как бы в двух направлениях: писать просто, писать так, как говорят миллионы, и в то же время писать «необыкновенно», по-особому возвышенно, эмоционально, экспрессивно, заметно отходя от общеупотребительных норм языка. Делом поэтического кругозора, таланта, мастерства, такта было совместить эти две тенденции, каждая из которых отчетливо осознавалась как потребность времени. Но в зависимости от вкусов и склонностей автора, от жанра и конкретного задания верх часто брала то одна, то другая ««сторона», и отсюда возникала необычайная широта колебания в поэтической интонации того периода - от просторечия до архаизмов, от разухабистой частушки до «оды торжественного „О“», от нарочитой прозаизации и опрощения стиха до его усложнения, образного перенасыщения. Эту вторую тенденцию можно выразить репликой одного из персонажей «Мистерии-буфф» - Фонарщика, который первым увидал «Землю обетованную» и, потрясенный увиденным, пытается передать остальным свое впечатление:
Н-е м-о-г-у...
Т-а-к-а-я
к-о-с-н-о-я-з-ы-ч-ь...
Дайте мне, дайте стоверстый язычище,
луча чтоб солнечного ярче и чище,
чтоб не тряпкой висел,
чтоб раструбливался лирой,
чтобы этот язык раскачивали ювелиры,
чтоб слова
соловьи разносили изо рта...
Да что!
И тогда не расскажешь ни черта!25
В первые годы революции многие советские поэты оказались, можно сказать, в положении этого Фонарщика. Зрелище революционной действительности, открывавшееся перед ними, было столь огромно и удивительно, что им нужен был «стоверстый язычище», чтобы об этом рассказывать. Таким «язычищем» были и возросшая в те годы гиперболичность Маяковского, и сгустившаяся до предела метафоричность Есенина и многие другие явления поэтического языка, призванного возвыситься, заблистать, «раструбиться» и тем не менее ощущавшего свою убогость перед величием реального факта - Октябрьской революции.
Все эти явления, не сходные между собою и ведшие поэтов по разным стилевым направлениям, а порою заводившие совсем не в ту сторону, куда стремился автор (тоже своего рода «косноязычь», - например, у пролеткультовцев, в погоне за «высоким словом» постоянно впадавших в превыспреннюю риторику), имели в своей основе нечто родственное. А именно - желание выразить свое восхищение красотой нового мира, свои бурные, переполняющие душу переживания толкало многих авторов к тому, что можно назвать (мы пользовались уже этим определением применительно к поэме «150 000 000») «гиперболизмом» стиля, нагнетанием тех или иных средств художественной выразительности, заметным сгущением в языке эмоционально-экспрессивно й окраски. В соответствии с этим в стихе ряда поэтов возрастает, например, роль звуковой стороны, свидетельствующая о преобладании эмоционального восприятия, о потребности «выкричать» и «вызвонить» миру все то, что волнует сердца миллионов и уподобляет сердце поэта литаврам, барабану.
Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша - медь литавр26.
В этой звукописи революции, так же как в ее лексике, получили права гражданства подчеркнуто «некрасивые», грубые, грохочущие, режущие звуки. «Есть еще хорошие буквы: Эр, Ша, Ща», - провозгласил Маяковский, дав образцы такой инструментовки стиха, которая изменяла представление о красоте и музыкальности поэтической речи и совпадала с общей направленностью его творчества, с нормами его ритма и языка:
Мимо баров и бань.
Бей, барабан!
Барабан, барабань!27
Подобного рода примеры связываются обычно с футуризмом, чья односторонняя увлеченность фонетикой общеизвестна28. Но несомненна связь этой грохочущей звукописи Маяковского и с более широким рядом литературных явлений той эпохи, когда барабанная дробь и призывные удары набата были наиболее, так оказать, популярными мотивами и служили основой поэтической инструментовки у авторов самой разной стилевой ориентации. Такого же типа (хотя и не такого же качества) стихи, что и приведенные выше строки Маяковского, можно встретить, например, у И. Филипченко, В. Князева, П. Орешина и других поэтов, не испытавших в данном случае никакой зависимости от футуризма, но работавших с разным успехом «в духе времени»:
Бедноте бездомной бью в барабан я.
Бью, обезумев в бранных боях:
Там тиран,
Таран там,
Рать там тарабанная,
Трон там - таратайка - мертвый прах29.
«Бам!.. бам!.. бам!..» - я медный вопль тревоги...
«Бам!.. бам!.. бам!..» - Дружинники сюда!
«Бам!.. бам!.. бам!..» - туманятся дороги,
«Бам!.. бам!.. бам!..» - орда идет! орда!!30
Здесь интересны не совпадения отдельных, более или менее удачных, приемов звукоподражания, а более общие и глубокие эстетические предпосылки, обусловившие эту повсеместную тягу к «звонкому слову», с его помощью авторы выражали свое первое впечатление от новой действительности, передавали «грохотом» и «звоном» свое волнение, порыв, боевую тревогу, достигая иной раз ярких экспрессивных эффектов за счет известных потерь в смысловой ясности, изобразительной точности языка. Воодушевленная пафосом грандиозного, поэзия этого времени порой утрачивала «чувство меры» и легко впадала в стилевые «крайности». Но страсть к чрезмерному (в образе, в словаре, в звуке) была в природе этой поэзии и питалась из живого источника, хотя и облекалась в самые разные, в том числе нередко - в «наносные», «случайные» формы.