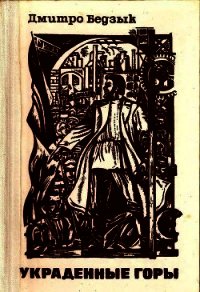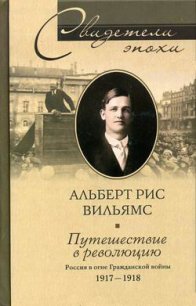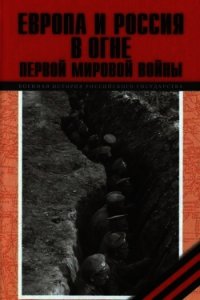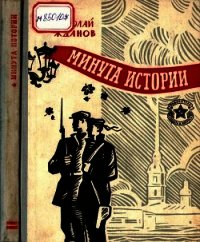Поэзия первых лет революции - Меньшутин Андрей (читать полные книги онлайн бесплатно txt) 📗
В одном из стихотворений Садофьева, выполненном в «свободной манере», развертывается полемика между создателями нового искусства и сторонниками старого. Реакционеры (среди которых действует, между прочим, «поэт любвей и соловьев» - явная реминисценция из Маяковского) утверждают, что новая форма пролетарских поэтов -
Скверная, грубая, неряшливая!..
Безграмотная и бесформенная!..
Авторы не знают законов стихосложения...
Размера и ритма...
Им от имени нового искусства возражает авторский голос:
Слепцы!
Поймите, что все то, что замкнуто вами -
В условную, беззубую, мертвую догму,
И размерную, ритмичную форму -
Уже не живет...
И что создается по старым законам -,
Тотчас умирает...23
Вопреки желанию автора, его стихотворная речь - действительно неряшливая и бесформенная - производит обратное действие и оказывает невольную услугу его литературным противникам. Сколько ни заклинает поэт, что все, что облекается в «размерную, ритмичную форму - уже не живет», ему нельзя поверить, ибо, потеряв «размерность», его собственный стих стал безжизненным. Отменив «старые законы», Садофьев не выдвинул новых, и в результате сама идея скомпрометирована его стихом.
Эта «непродуктивность» и повлекла вскоре к отливу творческих интересов от поэзии подобного типа. Но поражения, которые потерпел свободный стих, еще не дают основания отрицать за ним право на существование в русской поэтической речи, знавшей, в принципе, достаточно удачные и разнообразные опыты в этом роде. Неуспех же многих, сделанных в годы революции, попыток пересадить свободный стих на почву русской поэзии объясняется скорее всего некоторыми ложными предпосылками, коренящимися в самой творческой практике тех авторов, которые к нему обращались. А именно, здесь на передний план очень часто выступало чисто негативное понимание проблемы стиха, ритма, и поиски «свободных» форм практически сводились к тому, что поэт попадал во власть «бесформенности» и, отказываясь от традиционных размеров, рифмы и т. д., не приобретал ничего взамен. Для авторов, не обладавших достаточной стиховой культурой, мастерством (а таких было немало среди пролетарских поэтов), «свободный стих» нередко оказывался, попросту говоря, способом, с помощью которого незадачливый стихотворец выходил из создавшихся «затруднении» и писал «как придется», не слишком заботясь о художественном достоинстве своих вещей, но тем не менее искренне полагая, что он идет путем первооткрывательства.
Эти явления подтверждают как своего рода доказательство от противного, что подлинное новаторство отнюдь не заключалось в «ломке стиха», приводившей сплошь и рядом к плачевным результатам. И на этом же фоне особенно явствен глубокий положительный смысл стиховой реформы Маяковского. Борясь против старых «правил» и «канонов», он шел по пути не ослабления, а усиления в стихе ритмообразующего начала. период довольно широкого (и отчасти, по некоторым исходным моментам, близкого ему) увлечения всяческой аритмией, он разрабатывал и совершенствовал стих, исполненный несокрушимой волевой энергии. Вот почему его поэтическое новаторство оказалось в такой мере созвучным революции.
2
В истории советской поэзии период 1917-1920 годов при всей его резко очерченной идейно-эстетической целостности, «законченности» достаточно многообразен по своим творческим устремлениям. Переломный характер этого времени, приобщение словесного творчества к новому, еще не освоенному, материалу действительности, идейная перековка писателей, их формальные поиски, шедшие одновременно по нескольким путям, - все это приводило к тому, что даже в работе одного автора (не говоря уже о различии групп и направлений) нередко давали себя знать известная «разноголосица», смешение и пестрота стилей.
Период перестройки, ускоренного развития переживает в эти годы и Маяковский, чья поэтическая система, казалось бы, больше, чем какая-либо другая была «приспособлена» к восприятию эпохи войн и революций и поражала своей монолитностью, внутренней слаженностью всех «частей». Однако при ближайшем, более дробном, рассмотрении она обнаруживает пересечения разных (порою противоборствующих) интересов. Дело не сводилось к изживанию футуризма и накоплению других однородных качеств. Сами требования к поэзии, выдвинутые революционной эпохой, были слишком новы, сложны и многогранны, чтобы обойтись одним исчерпывающим решением.
Примечательно, что начало литературной деятельности Маяковского в послеоктябрьский период было сопряжено с работой над «Мистерией-буфф», которая и в жанровом и в языковом отношении существенно отличалась ото всего, что он писал прежде. Через это произведение, построенное не на обычной для Маяковского лирической основе, а на драматическом «разноречии», он как бы подключил к своей поэзии шумный говор толпы, волнующейся, митингующей, спорящей о самодержавии и республике, о революции и социализме. В этом смысле «Мистерия-буфф», где он начал в полной мере живописать стихами политику, знаменовала в его творчестве дальнейший этап демократизации языка. Но здесь же наметились стилевые тенденции иного порядка. И в речи персонажей - представителей трудящейся массы, и особенно в монологе «Человека просто», выступающего в пьесе проводником авторского, лирического начала, местами бросается в глаза тяготение к «сгущенной», метафорически-насыщенной речи, призванной передать героический пафос, душевный подъем, всемирный размах революции. Сходные явления наблюдаются и в других произведениях. На материале поэмы «150 000 000» мы видели, как убеждение поэта в том, что «революция - проста» и не требует никаких словесных ухищрений, сочеталось с противоположной и не снятой до конца установкой на «велеречивое» слово.
В поисках повышенной эмоциональной выразительности Маяковский в тот период иной раз обращался и к своим «старым запасам», строя сложные, запутанные метафоры, усиливая до предела звуковую инструментовку стиха и т. д., отчего его речь в некоторые (чаще всего в наиболее патетические) моменты, приобретала те или иные оттенки, напоминающие о его дооктябрьском облике. Но в целом эту направленность его стиля никак нельзя свести к «пережиточным», «остаточным» явлениям, подлежащим последовательному преодолению. Не один Маяковский, а вся советская поэзия стояла тогда перед очень трудной и ответственной задачей - не только рассказать о событиях в простых и понятных словах, переняв-живую речь улицы, но и найти подобающее моменту, по-особому емкое, яркое, впечатляющее, «грандиозное» слово: «Днесь небывалой сбывается былью социалистов великая ересь». Это сказано не так уж просто, а несколько витиевато, высокопарно и, конечно же, в духе «тринадцатого апостола», но вместе с тем - и в духе небывалого сегодняшнего дня революции, исполненного торжественности и величия. Перед нами, по сути дела, поэтическое иносказание эпохи, художественная формула ее, выведенная сложным путем, построенная на резко экспрессивном сдвиге понятии и лексических рядов, сплетенная в виде причудливого, подчеркнуто необычного словосочетания, богатого внутренними эмоционально-смысловыми переходами и контрастами, игрой звуков и значений: «небывалая быль», «ересь», превращенная в символ веры, актуальнейшая сверкающая современность - торжество социалистов - в тяжелой старославянской оправе. И знаменательно, что эти строки из «Поэтохроники» Маяковский в 1918 году приводит как образец «ржаного слова», современного языка новой поэзии и видит в них некий синоним политических лозунгов сегодняшнего дня: