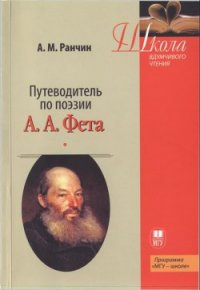«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Ранчин Андрей Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Тем не менее в стихотворениях Бродского встречаются заимствования из чеховских текстов. Так, Лев Лосев указал на «почти прямую парафразу» чеховского отрывка из «Дамы с собачкой» в начальных строках стихотворения «Я обнял эти плечи и взглянул…». По его мнению, Чехова и Бродского сближает особенное внимание к теме Времени: «Если говорить не только о поэзии, то можно назвать еще одного русского автора, посвятившего практически все свое творчество мифу Времени: Чехов. Все его рассказы и пьесы зрелой поры имеют своей темой ход Времени. „Про что“ — „Ионыч“, „Скрипка Ротшильда“, „Вишневый сад“, „Три сестры“? „Про“ смену времен дня, времен года, „про то“, что люди толстеют, седеют, встречи повторяются, деревья растут, дома переходят из рук в руки. То мелкое, житейское, комичное, что происходит в этих произведениях Чехова, по контрасту с неумолимым лейтмотивом приобретает ужасный смысл, предстает как жалкие человеческие потуги удержать Время. Именно здесь ключ к влиянию Чехова на мировую литературу двадцатого века, одержимую идеей Времени» [728].
Такое смелое сближение Бродского и Чехова только на основании особенного внимания обоих писателей к воздействию Времени на существо человека небесспорно: подобное внимание к Времени, как признает сам Лев Лосев, присуще и многим иным авторам. Поэтика Бродского далека от чеховской, а число текстовых перекличек невелико, хотя к указанной Львом Лосевым параллели можно добавить строку «Тучка клубилась, как крышка концертного фортепьяно» из стихотворения «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…» (III; 184), написанного спустя пять лет после заметки Льва Лосева (цитата из пьесы «Чайка», монолог Тригорина в д. 2: «Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль» [XIII; 29]). Эта же реминисценция, но в переиначенном виде, контаминированная с аллюзией на лермонтовское «Белеет парус одинокий…», содержится в стихотворении «Иския в октябре» (1993), написанном в том же году, что и «Посвящается Чехову»:
Реминисценция из повести Чехова «Степь» содержится в строках «различишь в тишине, как перо шуршит, / помогая зеленой траве произнести „все кончено“» из стихотворения «Надпись на книге» (1993?) (III; 239). Предсмертная речь травы — это парафразис пения-плача умирающей травы из чеховской повести: «В то время, когда Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя…» (VII; 24).
Но Бродский в соответствии со своей поэтической установкой ослабляет, приглушает экспрессию, эмоциональность чеховского описания: у него трава не поет, а говорит или, скорее, шепчет.
В стихотворении «Посвящается Чехову» обращение к наследию автора «Чайки» и «Вишневого сада» связано отнюдь не с общей для двух писателей темой воздействия Времени на человека. Чехов представлен как создатель художественного образа прошлого, образа той России, которую мы потеряли. А может быть, которой никогда и не было. Чеховский художественный мир как бы втягивается в поэтическое пространство Бродского, «развинчивается» на детали, из которых «собирается» новый текст — похожий на чеховские пьесы и далекий от них.
Экскурс 3. «Воротиться сюда через двадцать лет»: путешествие Одиссея в поэзии Бродского
«Посвящается Ялте» и «Посвящается Чехову», о которых шла речь в предыдущем экскурсе, — не единственная двойчатка среди поэтических текстов Бродского. Еще один диптих — «Одиссей Телемаку» (1972) и «Итака» (1993) [729]. Эти стихотворения как бы зеркально симметричны по отношению друг к другу [730]. В «Одиссее Телемаку» говорится о желанном, но чреватом препятствиями и, быть может, неосуществимом возвращении на родину, к милому сыну.
«Одиссей Телемаку» варьирует мотив трагической разлуки с сыном из стихотворения «Сын! Если я не мертв, то потому…» (1967):
Несмотря на присутствие христианских образов (Бог, Ад, Рай, апостол — подразумевается райский ключарь святой Петр), это произведение также соотнесено с «Одиссеей» Гомера как с претекстом. Опровержение героем вести (принадлежащей сыну и, возможно, внушенной ему кем-то) о своей насильственной смерти напоминает о мотиве гомеровской поэмы. В начале «Одиссеи» Телемак убежден в смерти отца, о чем говорит Афине Палладе, приходящей к нему в образе Ментора:
В отличие от стихотворений «Сын! Если я не мертв, то потому…» и «Одиссей Телемаку», в «Итаке» возвращение представлено как событие реальное или, по крайней мере, возможное; инфинитивы глаголов «воротиться» и «отыскать» в первых строках («Воротиться сюда через двадцать лет, / отыскать в песке босиком свой след» [III; 232]) могут выражать как изъявительное, так и условное наклонение. Но это возвращение бессмысленно и безрадостно: