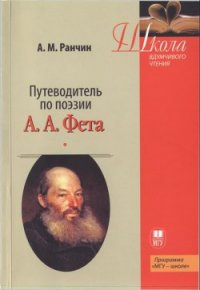«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Ранчин Андрей Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Отрицательное сравнение Дуни с книгами: «так не похожа на книги» (III; 254) — может быть истолковано как дважды перевернутый пастернаковский образ:
В пастернаковском стихотворении книге уподоблен мужчина, в стихотворении Бродского с книгами сравнивается женщина, и это сравнение не утвердительное, а отрицательное. (О цитатном характере этого сравнения у Бродского свидетельствует его неожиданность и произвольность.) [723]
Строки «„Вас в коломянковой паре можно принять за статую / в дальнем конце аллеи, Петр Ильич“. <…>» (III; 254) одновременно и сигнализируют о статической мертвенности изображаемой «жизни», и развивают инвариантный мотив Бродского «превращение человека в статую (старение-умирание) / оживание статуи» («Натюрморт», «Post aetatem nostram», «Торс», «Поддень в комнате», «Римские элегии», «Бюст Тиберия», «На выставке Карла Вейлинка», «Примечание к прогнозам погоды», «Новая жизнь», «Доклад для симпозиума», «Мрамор» и др.). Строки из «Посвящается Чехову» — это отзвук строк из стихотворения «Вертумн» (1990), описывающего статую в аллее Летнего сада, отождествляемую автором со своим итальянским другом Джанни Бугтафавой.
Строки «Рояль чернеет в гостиной, прислушиваясь к овации / жестких листьев боярышника» варьируют инвариантный образ «аплодирующих листьев», «овации листвы»: «Овацию листвы унять там вождь бессилен» («Пятая годовщина (4 июня 1977)» [II; 421]), «Листва / их (детей. — А.Р.) научит шуметь / голосом большинства» («Сидя в тени» [III; 72]), «перерастающие в овацию аплодисменты лавра» («Вертумн» [III; 201]); и как контрастное развертывание этого образа — «ропот листвы» («Гуернавака» из цикла «Мексиканский дивертисмент» [II; 366]), «бунт листьев» («Памяти Геннадия Шмакова» [III; 180]).
И наконец, завершается стихотворение пародической автоцитатой: мысль «Куда меня занесло?», посещающая Эрлиха в «дощатом сортире», — переиначенная предсмертная мысль ястреба («Эк куда меня занесло»), выталкиваемого упругим воздухом в «небо, в бесцветную ледяную гладь», «в ионосферу. / В астрономически объективный ад» (II; 378). А последние строки стихотворения «Посвящается Чехову»:
вводят иронически сниженный инвариантный мотив поэзии Бродского — затерянность, одиночество человека в бытии.
В окружении цитат из текстов, не имеющих никакого отношения к Чехову, «непристойные» детали, обнажение наготы выглядят как некий вызов, как желание оспорить новаторство и жизненную правдивость драматурга: он скрывает телесное, а Бродский решительно «заголяет» тела. Но мотив обнажения тела, «срывания всех и всяческих платьев» можно истолковать и как ироническую манифестацию такого чеховского драматургического приема, как «подводные течения». Завуалированным, прямо не высказываемым переживаниям героев «Чайки» или «Дяди Вани» современный стихотворец противопоставляет обнажение — но не эмоций, а тел. Чеховские тексты, таким образом, оказываются подобны одежде, скрывающей «нагую правду».
«Посвящается Чехову» — текст эпатирующий, призванный вызвать у читателя реакцию резкого несогласия и даже негодования.
Обращение Бродского с чеховской драматургией — постмодернистский подход к классическому тексту. Инвариантный текст чеховских пьес подвергнут деконструкции: выявлено таимое (эротические страсти и физиологические позывы), обнаружена ложность идеи о тождестве этого текста и жизни, чеховские персонажи и образы попадают в инородное окружение. Впрочем, противопоставление чеховской условной поэтике «голой правды жизни» — нагого тела и потаенных желаний — несвойственно для постмодернизма, который утверждает, что любое высказывание о «реальности» условно и что тексту может противостоять не «правда», не жизнь, а только другой текст. Однако на каком-то уровне оппозиция «литература / Чехов — правда / жизнь» в тексте Бродского снимается, ибо «жизненные» детали также осмысляются как литературные и даже демонстративно литературные образы. Таков хотя бы фрагмент, повествующий об Эрлихе в дощатом сортире: «на самом деле» он оказывается как минимум двойной цитатой — из «Улисса» и из «Осеннего крика ястреба» Бродского.
Жестокая «деконструкция» Чехова в «Посвящается Чехову» имела прецедентом «деконструкцию» логического, дискурсивного мышления в первой части двойчатки — в стихотворении «Посвящается Ялте»: «Жанр новеллы Бродского — антидетектив. Собственно проблема детектива как такового автора мало интересовала, и он не замышлял ни пародии, ни полемики с популярным жанром. То, что его интересует в самом деле, — это логика, а детектив атакуется именно как самая неприступная твердыня логики и фактов. Атака ведется в лоб, без артподготовки, без разбега, прямо с вступления. Уже во второй строчке автор ставит под сомнение весь наш привычный мир причинно-следственных связей <…>» [724]. По характеристике А. Лосева, «„Посвящается Ялте“ в целом есть драматическое изложение одной из наиболее острых современных научных проблем — соотношения между целостным, дискретным событием, с одной стороны, и его линейной (континуальной) текстовой интерпретацией — с другой. Это область увлекательных интеллектуальных приключений, на которую претендует логика, лингвистическая семантика, семиотическое литературоведение. На самом деле, конечно, поэт не следует за наукой, а, скорее, так же, как и ученые, исследует своими средствами этот конфликт» [725].
Полемика с притязаниями дискурсивной логики у Бродского объясняется экзистенциалистским недоверием поэта к отвлеченному рациональному знанию [726]. Выпад против Чехова связан, по-видимому, с более чем прохладным отношением Бродского к этому писателю. «Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит», — заявил он в стихотворении «Шорох акации» (II; 432). Инициалы и фамилия Чехова звучат здесь как звукоподражание чиханию, как чихание от пыли, осевшей на старой и никому не интересной книге: [апчехьв]. Пьесы Чехова, представляемые на театральной сцене, для Бродского — знак банальности, если не пошлости: «Итак, вы открываете местный „Time Out“ и обращаетесь к театру. Повсюду Ибсен и Чехов, обычная континентальная пища. По счастью, вы не знаете языка» (воображаемый «город вообще» в эссе «Место не хуже любого», пер. Е. Касаткиной [VI (2); 42]). В интервью Лизе Хендерсон поэт подтвердил свою нелюбовь к Чехову, объяснив ее так: «<…> он не метафизик, он физик, в любом смысле этого слова. <…> Читать Чехова или смотреть одну из его пьес — Боже упаси. Чего Чехову недостает, это агрессии ума (mental aggression), по-моему». Здесь же Бродский замечает в ответ на вопрос о применимости чеховского видения в сегодняшней России: «Нет — если вы обречены, вы не только обречены из-за невозможности решать самостоятельно, но также обречены по воле обстоятельств, из-за того, что существует тайная полиция и т. д., — такой двойственности, двуличия (duplicity) Чехов никогда не мог себе ожидать (never could have conceived) со стороны людей. Понимаете, в России XIX век закончился в 1917 году; на Западе он все еще продолжается» [727].