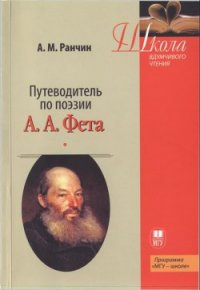«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Ранчин Андрей Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
Образ рояля у Бродского вызывает ощущение постылой предсказуемости всего происходящего. Этот эффект создается благодаря тому, что стихи «Рояль чернеет в гостиной, прислушиваясь к овации / жестких листьев боярышника» могут интерпретироваться как переиначенное выражение «рояль в кустах», означающее подготовленность, срежиссированность событий, неумело выдаваемых за спонтанное, свободное стечение обстоятельств («боярышник», аплодирующий игре на рояле, — небольшое дерево, или кустарник).
Столь же банально пенсне, которое носит персонаж: «„Меня?“ — / смущается деланно Эрлих, протирая платком пенсне» (III; 254). Эта деталь вызывает ассоциации с самим Антоном Павловичем Чеховым, визуальное представление о котором неизбежно содержит это самое пенсне. Таким образом, автор как бы становится персонажем собственных пьес, получая новое имя «Эрлих». Кроме такого «склеивания» героя и автора в «Посвящается Чехову» совершается сходное «склеивание» персонажей друг с другом:
Студент, — по всей вероятности, названный в начале стихотворения «студент Максимов»; однако род занятий Эрлиха неизвестен, и он также может быть студентом. Расстегивание брюк для испражнения соотносится с расстегиванием тужурки для словоизвержения: два действия предстают вариантами одного жеста. «Склеивание» персонажей заставляет подозревать их в безликости.
Время суток в стихотворении — вечер, сменяемый ночью: «И хор цикад нарастает по мере того, как число / звезд в саду увеличивается, и кажется ихним голосом» (III; 255). Пение петуха — ночное, оно напоминает о петушином пении, разгоняющем нечисть. Персонажи стихотворения начисто лишены инфернальных черт. Поэтому у Бродского ночное кукареканье, вероятно, указывает не на инфернальность, а на иллюзорность изображенного мира; после петушиного крика усадьба и ее обитатели и гости исчезнут, как ночной морок.
Акцентированная банальность и иллюзорность намеченных в стихотворении сюжетных коллизий и персонажей с их скрытыми эмоциями свидетельствуют, что мир Чехова завершен и не представляет тайны. В нем нет притягательной новизны. Одновременно Бродский подчеркивает, что этот мир — давно не существующий и потому нереальный и чуждый людям нынешнего времени. Классические и сугубо культурные коннотации придаются персонажам «Посвящается Чехову» благодаря упоминаемым в тексте именам и фамилиям. Газета «с речью Недоброво» воскрешает в памяти читателя имя друга и адресата стихотворений Анны Ахматовой Николая Владимировича Недоброво, а фамилия «Карташев» заставляет вспомнить об Антоне Владимировиче Карташеве — секретаре Религиозно-философских собраний, организованных Мережковскими, министре исповеданий Временного правительства (Карташеву посвящено стихотворение Осипа Мандельштама «Среди священников левитом молодым…», 1917); имя и отчество Эрлиха — «Петр Ильич» — совпадают с именем и отчеством Чайковского [719].
На фоне многочисленных и информативно избыточных чеховских драматургических элементов неожиданно и на первый взгляд шокирующе выглядят эротические или, если угодно, «порнографические» (непристойные) детали в тексте Бродского:
К числу непристойных деталей можно отнести и сцену с Эрлихом «в дощатом сортире». И наконец, строки «Легче прихлопнуть муху, чем отмахнуться от / мыслей о голой племяннице <…>» допустимо истолковать как свидетельство об инцестуальном характере вожделений персонажа: слово «племянница» может указывать как на родственные отношения девушки к хозяйке или хозяину дома, так и на ее родство с героем стихотворения, предающимся эротическим мечтаниям. Бродский мог отталкиваться от сцены в пьесе «Дядя Ваня», в которой отношение Войницкого к племяннице Соне выражается в поступке, который обычно ассоциируется не с родственным, а с эротическим чувством:
«
ВойницкийЖадно целует ее руки и лицо.Откровенность этих строк ни в коей мере не соответствует «стеснительной» и «высоконравственной» чеховской драматургии. Их появление в тексте Бродского, возможно, связано с установкой на создание дистанции между чеховской поэтикой (когда-то обозначенной самим автором как воссоздание самой жизни как она есть) и подлинной жизнью с утаиваемыми и «постыдными» желаниями и действиями. Кроме того, здесь происходит очевидное столкновение чеховской поэтики (маркированной как «классическая»/«архаичная») и примет некалендарного XX века. Описания эротических желаний Эрлиха вызывают в памяти фрейдизм, открывающий подавленные сексуальные влечения, а испражнение Эрлиха в «дощатом сортире» — откровенная реминисценция из «классики авангарда» — из «Улисса» Джойса, в котором изображается Блум, также испражняющийся в дощатом туалете на дворе. В сравнении с «Улиссом», чей автор не чурается откровенных описаний, Чехов выглядит старинным литературным пуританином.
Внимательный читатель обнаружит в тексте Бродского и другие реминисценции из текстов или переклички с произведениями, которые были созданы спустя годы и даже десятилетия после смерти Чехова Муха прилетела на варенье из стихотворения Иннокентия Анненского «„Мухи как мысли“» и из стихотворения Бродского «Муха». В «Посвящается Чехову» присутствует параллель «муха — мысль», основанная на многозначности глагола «отмахнуться» («прогнать муху» и «освободиться от мысли»). В стихотворении «„Мухи как мысли“» такое уподобление, заданное в заглавии, проходит через весь текст:
В соотнесенности с текстами «„Мухи как мысли“» и «Муха» образ мухи в «Посвящается Чехову» приобретает коннотации «скука», «бессмыслица жизни», «эфемерность бытия» [721]. Кожаный диван в строках о «голой племяннице, спасающейся на кожаном / диване от комаров и от жары вообще» (III; 254) позаимствован из раннего стихотворения Бродского «Я обнял эти плечи и взглянул…» (1962):